|
тельно*, значит «слава божья». Но какой конфуз! Ведь слава-то эта языческого бога, а не христианского; ведь Феоклея завзятая язычница, которая предала свою дочь, и до конца не обратилась. Феоклея – греческое языческое имя, божья слава языческая. Это раз. А второе, составители святцев, очевидно, считали, что Фекла – уменьшительное имя Феоклеи. Правда, так многие считали, и в том числе большинство ученых. Никто не обратил внимания на то, что самое созвучие «текла» (Фекла в подлиннике звучит Текла, и на новых европейских языках наша первомученица называется святой Теклой), что это созвучие не греческое. Кроме того, греческий язык не дает сокращения «фео» в «фе» или «клея» в «кла», так что между именами Феклы и Феоклеи нет ровно ничего общего, кроме одинаковых нескольких букв. Зато мы имеем ряд таких имен, как Текла, Тикла, Дикла и Декла в древних семитических языках, каковы абиссинский, сирийский, еврейский и арамейский. И вот что любопытно: это имена, то мужские, то женские, как Тамары и Тамирисы были, то женщинами, то мужчинами. Но есть еще более интересные вещи. Тамара по-древнееврейски, а Текла-Декла по-арамейски, означают одно и то же, а именно пальму, финиковую пальму, и оказывается, что в доисторическое время Текла означало дерево, дерево вообще, а позднее приобрело значение одного определенного дерева-пальмы. Итак, наша первомученица есть не что иное, как доисторическое божество дерева.
Нужно сказать, что почитание священного дерева лежало в основе как раз тех самых культов и их мифов о женщине и юном сыне или возлюбленном, с которыми мы все время имели дело. В историческое время такое почитание дерева особенно было характерно для Ханаана, то есть, условно говоря, для тех племен, которые населяли до-еврейскую Палестину. Здесь дерево мыслилось женским божеством, и это божество изображалось просто в виде деревянного обрубка. В свою очередь, культ дерева был только частью культа земли; земля представлялась женщиной, в частности матерью, рождающей все сущее, и в том числе людей, животных, всю и всякую растительность. Поэтому, образ земли, матери-земли, становится образом так называемой Великой Матери, то есть образом женского рождающего начала, а ее юный любовник или сын (эти два понятия не различались) получил биографию юного дерева, нежной растительности, свежего злака, молодого солнца и т. д., словом, всего того, что уходит (по представлениям древних) в землю и выходит из нее нарождающимся. Дерево играло большую роль во всех обрядах, связанных с культом земли и великой матери. Оно было ее прямым олицетворением и означало ее самое. Мать и сын (или любовник) представлялись так же едиными, как едина земля и ее плоды; если и автором наших Деяний был семит, то он, быть может, должен был представлять себе, что Тамирис есть то же самое, что и Фекла. Так как Фекла-божество дерева, то и после ее смерти из ее крови вырастает смоковница, и эта смоковница имеет дар врачевания. Кроме того, сохранилось у литовцев женское божество Декла, которое является богиней судьбы и рождений, а в Сирии культ святой Феклы остался и по сию пору. Здесь она считается всемогущим божеством, и ей одинаково поклоняются семиты, католики и магометане. Она имеет тут храм на высотах, как и в древности, и священный столб, т. е. свое доисторическое олицетворение. В нашем апокрифе ее родиной считается город Малой Азии Икония, а мы знаем, что в этом городе существовал языческий культ так называемый матери-заступницы; матерью-заступницей она осталась и в современном культе в Сирии. Но до нашего апокрифа Фекла была божеством не в одной Иконии, а по всем городам окрест, лишь имела разные прозвища. Так, она везде является перед нами, как божество произрастания, покровительница родов, помощница при бесплодии; она посылает легкие роды, наливает грудь молоком, т. е. выполняет все функции языческой богини-производительницы, ставшей только впоследствии у христиан святой и первомученицей. Но почему же она дева и «раба божья»? До нас дошли варианты сказаний о св. Фекле, где это значительно разъяснено. Оказывается, она – гиеродула богини Артемиды и служит ей своим девством. Сначала она сама
|
 
|
|
была* богиней, потом стала представляться, как жрица богини, а еще дальше сделалась героиней романа у язычников, первомученицей и святой у христиан.
Что касается имени царицы Трифэны, то оно, будучи именем многих египетских и малоазийских цариц, в апокрифе тоже есть имя мифическое; так, мы знаем житие, где эта Трифэна уже святая, и к ней приурочены наиболее типичные черты из культа «великих матерей». В конце концов, почти все действующие лица наших Деяний становятся впоследствии святыми и мучениками.
Мы можем теперь категорически утверждать, что герои Деяний и их имена не созданы случайной фантазией малоазийского священника, а даны ему в виде культового наследия. Их присутствие в апокрифе совершенно закономерно, и все они связаны друге другом. В их лице мы имеем дело с женским и мужским божествами одного и того же культа плодородия, при чем женщина – это богиня мать, а мужчина – ее сын-возлюбленный. Фекла была первоначально матерью, и Фальконилла была матерью. Когда единый культ раздвоился и пошла мода на девство, Фекла и Фальконилла стали дочерьми-девами, а матерьми к ним были созданы Трифэна и Феоклея, первая по историческому признаку (как Павел), а вторая по признаку созвучия в имени. Тамирис, который был неотделим от Феклы, стал ее женихом. Но раздвоились и самые функции действующих лиц, потому что культ производительности начинался смертью, а кончался воскресением. В соответствии с этим половина действующих лиц стала нести траурные функции (умершая Фальконилла, рано умерший Тамирис), а половина функции воскресения (Фекла и Павел). Таким образом, роль апостола Павла у нас в Деяниях – это роль любовника языческой богини плодородия.
Но Деяния – только один из типичнейших греческих романов. Следовательно, не в одних лишь этих Деяниях, но решительно в каждом из греческих романов имена действующих лиц оказываются именами древнейших, если можно так сказать, еще до-языческих богов. Этим фактом мы устанавливаем культовое происхождение греческого романа. Кроме того, этим фактом мы устанавливаем и то, что греческий роман имел корни в какой-то чрезвычайно древней идеологии и что в историческое время в своем так называемом готовом виде он состоял из тех же мотивов, с которыми некогда были увязаны и его действующие лица. Теперь перед нами, следовательно, такая задача: вскрыть идеологию, создавшую готовые формы греческого романа. Мы для этого, само собой разумеется, обращаемся именно к этим готовым формам. Имена мы уже проанализировали. Сейчас займемся структурой романа: его основной композицией, его эпизодами и его сюжетом.
Здесь нам бросаются в глаза две особенности романа. Первая – это трафарет общего сюжетного и композиционого обрамления, трафарет общей схемы (брак и разлука, странствия и поиски, встреча и воссоединение навеки). Вторая – это то, что мы называем «мученичеством» или «мнимыми смертями». Эти две части романа мало связаны друг с другом, то есть связаны чисто внешне, путем фабулы. На самом деле история влюбленных – это одно, а сами по себе приключения – это как бы что-то совсем другое. Теперь подойдем к этим двум частям романа поближе. Начинается роман с пламенной любви и брака. Но почему же сразу разлука и вопли? Начинаем относиться к этим «любвям» подозрительно. И, в самом деле, очень скоро убеждаемся, что каждая такая любовь и каждый брак трактуются романом в виде смерти. Любовь в греческом романе всегда понимается, как смерть. То в день брака герой или героиня внезапно умирают, то сравнивают свой брак со своей смертью; то убегают от смерти, то... но таких «то» бесконечное множество. Мы видим, как невеста в брачном наряде оказывается в гробу; как она считает себя умершей, а ей поют брачный гимн, или, наоборот, ее готовят к браку, а ее ждет смерть. Все это было бы~ пожалуй, странно и непонятно, если б такой же точно сюжет не был издавна присущ культу плодородия. Так, богиня любви Афродита хочет соединиться с Адонисом, своим возлюбленным, а он внезапно умирает или просто исчезает, тогда начинаются поиски его, которые заканчиваются его нахождением и его воскресением. И вот дело-то все в том и
|
 
|
|
заключается*, что смерть представлялась древним людям как разлука, но временная разлука, а нахождение – как воскресение.
Мы имеем дело здесь с земледельческим представлениями, созданными на почве земледельческого хозяйства, которое связано непосредственно с землей и ее обработкой. Главное внимание обращено на урожай, на погоду, на соотношение между посевом и жатвой. Однако, древнее земледельческое общество по-своему осмысляет все происходящее. Все, что связано с погодой, с общими природными явлениями – дождь, тепло, холод, солнечный свет – это все представляется небом или частью неба, т. е. мужским началом, оплодотворяющим начало женское, землю, своей влагой и своим теплом. Земля – это женщина, мать; растительность – колос, злак, плод, цветок – это ее сын или ее юный любовник. Во время посева земледелец зарывает в землю зерно, обсеменяя поле; это кажется ему актом оплодотворения земли, таким же точно, как женщины. Семя пропадает под землей, исчезает, по представлению древнего хлебороба – оно умирает. Поэтому, смерть и исчезновение – это одно и то же. Древнему земледельцу образ земли как преисподней, в которой умирают семена, рисовался в виде женщины, матери или любовницы, но губящей, умерщвляющей своего сына или любовника. Однако, наступает момент, когда зерно прорастает – это оно вновь появляется на свет, рождается, воскресает. Поэтому рождение ребенка казалось тем же самым актом, что и прорастание зерна, а то и другое – оживанием, воскресением из временной смерти. В то же время земледельческий быт, с его слепой пассивностью перед силами природы и с его значительной зависимостью от внешнего мира явлений, от почвы, погоды и т. д. создает базу для религии кротости и покорности; окружающий мир прдставляется ему в виде злой, капризной силы, которая внезапно обрушивается и вполне неожиданно то губит, то обновляет. Отсюда, обреченность – главная черта земледельческих мифологий; земледельческие боги – боги покорные, кроткие, которые терпят незаслуженное гонение со стороны темных сил. Они недолговечны; сегодня растительность цветете – завтра увядает. Вся их жизнь – гонения, мученичества, страсти. Но как раз в смерти они совершают процесс обновления, и сегодня умершие, они завтра воскресают. Так как земля представлялась преисподней из своего чрева рождающей новую растительность, то смерть стала казаться необходимой базой не только для воскресения, но и для нового рождения, для рождения вообще. Но и от соединения мужчины и женщины тоже родятся дети. И вот половой акт стал казаться тем же самым, чем казалась земля, т. е. смертью, дающей воскресение и новое рождение. Позднее на место полового акта стала «любовь» или «брак» или «прелюбодеяние», но дело от этого не изменилось, а по-прежнему любовь или брак были тождественны смерти.
На почве всего этого любовь в греческом романе есть столько же мотив смерти-похорон, сколько и мотив брака. Разлука или исчезновение повторяет этот мотив полового акта, и потому в греческом романе герои исчезают или разлучаются. Дальше идут поиски исчезнувшего бога растительности и его нахождение: это поиски и нахождение любовников. Ведь семя, чтоб ожить, должно быть погребено, должно умереть (в утробе земли или женщины), и бог, чтоб воскреснуть, должен временно умереть (как растительность – во чреве матери-земли, а как сын – во чреве матери-женщины). На этой почве создается мотив эротики (производительного акта или любви), который одновременно есть мотив воскресения. Вообще, раз воскресение и оплодотворение представлялись одинаковым актом, образ плодородия мог быть передан в мотивах хозяйственного земледелия, и тогда мы имеем такие мотивы, как «страда плодов», как смерть и воскресение растительности или бога растительности. Но этот же образ может быть передан в отношении к чисто человеческому производительному акту, и тогда получаются мотивы «страстей» богов-героев, их погребения и воскресения из гроба или мотивы их любви, «страсти», брака, блуда и т. д. Итак, здесь лежит диалектический момент: любовь и эротика в культе богов плодородия есть смерть и воскресение,
|
 
|
|
при* чем один и тот же образ плодородия, будучи по существу единым, дает изначально и одновременно два совершенно различных оформления.
В историческое время эти два оформления окончательно расщепились, и эротическая сторона культа стала казаться одним явлением, а земледельческая совсем другим. Однако диалектика процесса все же одержала победу над этой кажущейся двоякостью, и в греческом романе нерасторжимо слиты два противоположных начала, эротическое в виде страсти героев, а мученическое в виде страстей божества. С этой точки зрения, греческий роман представляет собой воскресенческую новость, совершенно тождественную евангелиям, хотя и различно оформленную. Ведь если в схеме обрамления греческого романа мы видим разъединенную и соединенную любовь героев, то все его эпизоды, весь его, так сказать, фарш состоит сплошь из «мнимых смертей», т. е. из эпизодов смерти, которая кончается воскресением. Самая любовь героев, как мы подметили только что, представляет собой смерть, и в день брака герои в той или иной форме умирают. Напротив, в день соединения они возрождаются. Такова же в сущности и схема всех мнимых смертей; только в евангелиях мы встречаем страждущее божество, а в романе – влюбленных героев, но и они оказываются мнимо умершими и вскоре чудесно воскресают, восставая прямо из гроба. Но кроме таких непосредственных воскресений, греческий роман дает сплошь и рядом сцены распинаний, повешенья на дереве, и в этой роли распинаемого мы снова видим влюбленного героя. При этом, как и в евангелии, самое распинание проходит в обстановке маскарада-глумления. То, что на месте страждущего бога мы видим любовника, диалектически понятно: это один и тот же образ растительности, в частности дерева, то в виде бога плодородия, то в виде возлюбленного матери-земли. Вообще, эпизоды повешенья или распинания представляют собой рассказ о божестве дерева, первоначально о самом дереве, как это мы видели в культе дерева-Феклы.
Точно таковы же в греческом романе водные эпизоды – утопание, кораблекрушение, катастрофа на море, плавание и т. д. Они дают в переформленном виде рассказ о божестве воды, о самой воде, как это было видно по Тамирису, олицетворявшему воду; в евангелиях этот развернутый в эпизоды образ воды создает сцены крещений, погружений в воду, хождения по воде, бурю на воде и т. д.
Греческий роман имеет и такие эпизоды, которые входят в самом большом количестве в христианские мученичества и жития, покоясь на представлении об огне и о животном, как о божествах: это огнеборство и звероборство. Каждый из этих эпизодов имеет, как и эротика, свое отдельное и равноценное существование не только в рассказах и мифах, но и в культе вообще и в обрядах. Мы знаем об обрядах погружения в воду, знаем международные праздники костра и обрядовые бои со зверями.
Из многочисленных мифов и обрядов мы видим, как в их основе лежит пучок образов, данных самой реальной действительностью: вода, земля, дерево, огонь (еще раньше – просто солнечный свет) – вот первоначальный элементы внешнего мира, с которыми сталкивался лицом к лицу древний коллектив.
Эпизоды утопания – это рассказ о воде, но вода уже олицетворена в утопающем герое, а сама по себе, в качестве воды, осталась в виде места действия. Эпизоды повешенья и распятий – это рассказ о божестве-дереве, но дерево уже представлено, как бог иди как влюбленный герой, а самое дерево есть место, к которому он привешен. Точно так же огонь есть первоначально самостоятельное божество, но потом оно играет роль только костра, а его олицетворение, герой или героиня, изображаются выходящими из его пламени. То, что позднее является мученичеством в христианских житиях святых, в деяниях и в мученических актах, у язычников было культовым праздником (таковы и сейчас в деревенских обрядах Ивановы Костры, потопления Ярила, повешенье чучела и т. д.); языческий праздник сделался у христиан мученичеством. Но две разные хозяйственных структуры – охотничья и земледельческая – дали две идеологии, а две идеологии – две структуры для мифа и для обряда, а в дальнейшем и для литературного
|
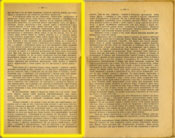 
|
|
сюжета. * Одна из этих структур – подвиги и безбольное прохождение сквозь смерть. Другая – страдания (в виде страды, страстей и страсти), обреченность смерти и неожиданное воскресение. Обе они в равной мере оформляют и направляют позднейшую религиозную мысль язычников, христиан и евреев. Они создают жанр духовных подвигов и деяний с одной стороны, и жанр страстей или мученичеств – с другой. Органическое сожительство этих двух жанров в нашем апокрифе или в греческом романе вполне закономерно и вызывается общностью идеологической основы. Точно так же закономерна слитность языческого эротического жанра с христианскими жанрами деяний и страстей.
Обратимся теперь к вопросу о том, каким образом евангелия оказались разновидностью греческого романа.
В определенные дни в тех именно странах и городах, где живут и действуют наши герои из романа или из евангелий (Египет, Малая Азия, Вавилон, Сиро-Финикия), устраивались праздники «страстей». Эти обряды или страсти разыгрывались всегда по одному определенному шаблону: умирало невинное божество, преимущественно бог-сын; затем его оплакивали, и скорбящая мать искала его для погребения; и далее оно воскресало так же неожиданно, как умирало. В сущности эти страсти воспроизводили жизнь божества в одном определенном периоде от его умирания до воскресения. Таких «последних дней» божества у Адониса было два (или один), у Аттиса три-четыре, у Озириса от четырех до восемнадцати. В Абидосе, при воспроизведении страстей Озириса, представлялась его борьба с врагами; на него нападали темные силы и убивали. Тогда по Озирисе поднимался плач, а его тело увозилось и погребалось. Но в конце концов враги оказываются униженными, а Озирис, при обряде ликования, воскресает. Эти страсти разыгрывались еще и иначе. Так, они начинались выносом Изиды, изображенной в виде коровы. Далее, народ шел к морю, а жрецы несли ковчег с золотым ларцом. В этот ларец они наливали свежую воду, и тогда народ ликовал и кричал, что Озирис найден. После этого брали поросшую землю и увлажняли водой, смешивали с ладаном и пряностями и из смеси делали изображение, похожее на луну, которое одевали и украшали. Это представление происходило в праздник борозды и посева; изображение из земли и зерен означало бога, а окропление водой или погружение в воду – выход нового злака, воскресения божества. В других местах брали ячмень и зарывали в саду бога, в цветочном горшке, а затем поливали водой; проросший новый ячмень был воскресшим богом. Бога оплакивала, искала, погребала и оживляла Изида. В римское время культ Озириса уже был слит с культом их сына, Гора, и Изида искала среди рыданий уже не мужа, а сына. В иных местах мы видим только воспоминание об этих страстях, и люди раз в год предаются скорби и плачу в ночном таинстве, при котором изображение Озириса, на подобие площаницы, выносилась из того места, где стояло в течение всего года.
Страстям Адониса посвящалось семь дней. Изображалась вкратце вся жизнь Адониса, его соединение с Афродитой, ранняя и насильственная смерть, погребение, воскресение. Женщины своим телом, проституцией, служили в это время Афродите. Тут же находились горшки с садами Адониса. В эти горшки зарывали тело бога, зерно, и поливали водой, а потом оно прорастало в виде воскресшего Адониса, который так же быстро увядал. И в обрядах Адониса тоже было «водосвятие»; Афродита тоже рыдала над телом любовника, умащала его и погребала, и вся природа откликалась на эту смерть. Наконец, уже после погребения, Адонис внезапно воскресал и возносился на небо, а народ громко ликовал.
Такие же обряды существовали в культе вавилонского Таммуза, сына возлюбленного Иштар; он умирал, женщины его оплакивали, а потом, при ликовании, он воскресал.
Страсти малоазийского Аттиса особенно были популярны в римское время. Тело бога вешалось на ствол священного дерева, которое олицетворяло великую мать, Кибелу. Затем наступали дни исступленного состояния – дикая пляска, музыка и нанесение себе ран и порезов. В эти же дни совершалось и массовое
|
 
|
|
оскопление*. Оскопленным представлялся и сам Аттис, рожденный матерью-девой, Кибелой. Наконец, Аттис умирает и его хоронят. Но на третий день он воскресает, и скорбь переходит в шумную радость.
Итак, в одних из этих обрядов преобладает мужская роль (Озирис), в других женская (Афродита), в третьих они идут рядом (Аттис и Кибела). Их общая тема – смерть, преодоление смерти и воскресение, которое называется у Озириса, «исчезновение, поиски и нахождение». Главный момент всех этих обрядов сжато выражен в адонисовых садах и в горшках с землей Озириса: деревенский хозяйственный акт – зарывание зерна в землю, идеологически переформившись, дал структуру сюжету о погребении и воскресении из гроба, о смерти и воскресении. Промежуточная стадия, переход от смерти к жизни, подсказана и здесь полевым процессом прорастания, центральным в жизни хлебороба: мы видим, что обряд с горшками-садами Озириса происходит в дни посева. У Аттиса, вместо садов и горшков, существует обряд привешивания к дереву, т. е. то же самое, что распятие на дереве; кроме того, в его обрядах не зерно зарывалось в землю, а мужской орган производительности. Так как земля представлялась женщиной и матерью всего сущего, то мы, вглядевшись в эти обряды, сейчас же подметим параллелизм земледельческих и эротических мотивов. В самом деле, ведь во всех этих обрядах речь идет о посеве и действо изображает посев, а между тем священное сказание говорит о брачной разлуке Озириса и Изиды, о любовном разъединении Афродиты и Адониса, о потере Кибелой своего сына-возлюбленного. Сюжет этих священных словесных страстей совершенно совпадает с сюжетом греческого романа, а сюжет этих же обрядов совпадает с сюжетом евангелий.
Таким образом, мы видим, как реальный хозяйственно-трудовой акт земледелия дает в идеологическом переформлении один и тот же образ плодородия, который нерасторжимо и одновременно является и образом мученических страстей, и образом страстей любовных. Этот, параллелизм, это тождество эротики и мученичества, мы встретим с полной неизбежностью всюду, где будем иметь дело с культом плодородия, идет ли речь о греках, о восточных языческих народах, об евреях. Так, например, в греческих земледельческих обрядах мы видим, с одной стороны, уход под землю зерна и выход его оттуда, при чем это зерно олицетворяется не в виде мужского божества (как Оризис и Адонис), а в виде женского или в виде животного, или, наконец, просто в виде мужского органа производительности. А, с другой стороны, к этим же обрядам приурочены сказания о мужчинах, которые проникают к женщинам, с целью насилия, но те за то оскопляют их или убивают. Следовательно, мотив земледельческого плодородия (прорастания зерна) и мотив людского плодородия (насилие, оскопление, в том или ином виде производительный акт) идут вместе. Этот параллелизм сказывается еще ярче в еврейском культе. Здесь особенно характерна пасха и своим обрядом и своими священными сказаниями. Как земледельческий праздник, она была приурочена к созреванию колосьев, к весеннему месяцу. Это был праздник начатков, первого приплода животных, растительности и людей. В сказании сохранились следы того, что в эти дни иегове приносили в жертву не только начатки растительности и приплод животных, но и первенцев-детей; впоследствии сказание говорит об его кровавой роли в одном Египте, где еврейский бог убивает все первородное потомство от царя до животного. Еврейская пасха в сущности есть уже столько же праздник смерти и воскресения, как потом и христианская пасха. Так, смерть растительности, животных и людей дана здесь, как путь к воскресению; это смерть временная, и она ходила за дверьми лишь в первые дни праздника, а с восьмого воскресали злаки и начиналось торжество жизни. Тогда пост и воздержание от хлеба сменялось разговеньем хлебом нового урожая и обильным насыщением. Почему смерть и воскресение Христа приурочены ко дням пасхи? – Да именно потому, что пасха была праздником смерти и воскресения. По этой же причине в пасхальные дни хотят умертвить ап. Петра, но ангел его спасает. К пасхе приурочено первое пророчество Христа о своем воскресении, на пасхе неожиданно исчезает юный христос, которого мать ищет в скорби и находит вне
|
 
|
|
запно* да третий день. В этом сказании христос – типичный сын богини плодородия, как Адонис, Таммуз, Гор, как Фалькон, сын Фалькониллы, из жития св. Панкратия.
Дело в том, что всякая пасха есть одновременно и рождество. Ее праздник – это праздник первинок, первенцев, начатков, праздник рожденья бога плодородия в виде ребенка, или детеныша, или нового побега. И если у евреев мы не находим отдельного праздника рождества, то потому, что он целиком входит в пасху; позднее, у христиан, история младенца Христа отделяется от истории Христа взрослого, и рождество становится самостоятельным праздником. Но где же эротические мотивы в еврейской пасхе или в свернутом еврейском рождестве? На этот вопрос дает богатый ответ вифлеемский фольклор. Дело в том, что Вифлеем считался местом рождения пасхального бога, Христа. С Вифлеемом связаны Давид, Иаков, Иосиф; Вифлеем – родовое место Иудина колена и дом Давидова отца. Следовательно, когда именно к Вифлеему приурочивается рождение пасхального ягненка, Иисуса, это далеко не случайно. Особенно, если знать, что Вифлеем имел культ Адониса-Таммуза, а его имя означало «дом хлеба». Дом хлеба и дом Давидова отца – вот что это за «дома«»; это хлебная житница, где потомки Давида, до Иисуса включительно, представляют собой олицетворения хлеба. Но какие сказания еще, кроме истории Иисуса, приурочены к Вифлеему? И вот тут-то оказывается много любопытного. Прежде всего, к Вифлеему приурочена история одной наложницы. О ней рассказывается, что она убегает от своего любовника, но тот бежит за ней, ищет, находит и возвращает; однако, по дороге на эту наложницу нападают жители Гивы и массовым изнасилованием доводят ее до смерти. Похоже на греческий роман или нет? – Очень похоже; только в греческом романе наша Фекла дала бы пощечину и непременно избежала насилия, а эта вот наложница не избежала. А на евангелия похоже? – Нисколько. И однако же это есть полный вариант евангелий, только оформленный в мотивах эротики. В самом деле, здесь перед нами наложница, побег, поиски и производительный акт, который одновременно есть и смерть. Этот производительный акт сливается со смертью, как любовь и брак сливались со смертью в греческом романе и в культе плодородия. Что же дальше произошло с этой наложницей? Не воскресла ли она? Не вышла ли замуж? Не вернулась ли на родину. – Редактор этой библейской новеллы постарался, чтобы мы этого не узнали. Но зато мы можем догадаться по другому рассказу, из «Книги Руфи».
Руфь тоже со своей историей приурочена к Вифлеему, и не нужно смущаться тем, что ее рассказ несколько иной. У Руфи был муж из Вифлеема, и он умер; Руфь остается с матерью мужа Марой и, терпя голод, убегает из Вифлеема, но после, скитания возвращается обратно, под видом блудницы приходит к богатому Воозу, собирает на его полях созревшие колосья и в конце концов выходит за Вооза замуж. Днем она собирает колосья, а ночью приходит к нему на ложе разодетая, как блудница. Уже одним этим мотив «жатвы колосьев» обращается в мотив «производительного акта». Но, кроме этого, наш сюжет делится на две части. В первой части смерть первого мужа из Вифлеема, голод и побег; во второй части – возвращение, жатва и брак с новым мужем из Вифлеема. И здесь «смерть» соответствует «голоду» и «побегу», а «жатва» – «браку» и «возвращению». У Руфи умирает муж из Вифлеема, а сама она наложница и благодаря этому выходит замуж; в истории о Вифлеемской наложнице умирает сама наложница, и умирает от насилия. Любопытно, что «Книга Руфи» не просто рассказ, а рассказ культовый, священный; она представляет собой словесный канон в богослужении при Пятидесятнице.
Но что такое Вифлеем? Вифлеем есть не только местность, но и герой, очеловеченный бог местности. В местном фольклоре он носит имя то Вифлеема, то Вооза. И выходит, таким образом, что Руфь жена Вифлеема, т. е. его женское соответствие, другими словами, местное женское божество плодородия; а этот Вооз – Вифлеем, предок Давида и предок Христа, представляет собой попросту божество, местное божество жатвы, ее местное Вифлеемское воплощение.
|
 
|
|
Но*, помимо этого, Вифлеем имеет еще одно название – Эфрата, что значит «плодородная нива». А это же имя носила Мириам, сестра «пасхального» Моисея.
Но посмотрим еще на одну разновидность Вифлеемского фольклора, на евангелия. Перед нами чудесное рождение в Вифлееме от девы бога-сына. Его земной расцвет совпадает с праздниками зелени, плодов, жатвы; его встречают, устилая его путь зеленью пальм и срезанными с деревьев свежими ветвями. Муки его совпадают с праздником хлебного поста, с жертвой снопа, с закланием агнца, кровь которого искупает от смерти, а его воскресение – с первым выходом ячменя, с новой жатвой. Хлеб есть тело его, и символ его смерти – кусок хлеба, и когда он передает его, этим дается знак будущей гибели. Он погружается в воду и в воде получает обожествление. Его преследуют, неправедно судят. Гибель его насильственная; он предается в кедровом саду, у потока; на том месте, где он умирает, цветет сад. Еще он жив, когда толпа идет за ним, женщины бьют себя в грудь и поднимают над ним заплачку. Смерть ждет его на дереве; распиная, его переодевают в маскарадные царские одежды и насмехаются над ним. Его погребают, но он внезапно воскресает, и плач сменяется ликованием. Одна из женщин носит имя Марии, и этим именем называется и мать его, и блудница, и та, при которой он воскресает. На его смерть откликается вся природа – гаснет солнце, наступает тьма, наступает землетрясение. Воскреснув, божество возносится на небо; все города, враждебные ему, теперь погибнут.
Итак, мы видим, что сюжет евангелий представляет собой типичную разновидность именно Вифлеемского жанра, и упирается в хозяйственно-трудовой процесс сеяния и жатвы. Идеологически переформляясь, этот процесс обращается в исчезновение зерна, пребывание в земле, появление на том же, месте из земли в новом виде. Отсюда образ смерти и воскресения. Этот образ развертывается в мотивы исчезновения, поисков и нахождения. Но эти мотивы, будучи идеологически едиными, различны в своих оформлениях. Исчезновение может выражаться путем поста, голода, увядания, любовной разлуки, брачного воздержания. Промежуточная стадия передается в мотивах искания погибшего или уехавшего, странствия, обрядов воды, крови и вина, огня, и дерева. А нахождение передается жатвой, разговением, производительным актом, воскресением из мертвых, возвратом любовников; сюда же идут мотивы раздачи хлеба, насыщения голодных, семейной или любовной встречи.
Таким образом, вся разница между евангелиями и греческим романом отнюдь не в идеологически различном происхождении, а только в различных оформлениях мотивов; внешнее же различие мотивов есть исконное условие всякого сюжета и жанрообразования. Греческий роман идет по линии эротических мотивов, евангелия – по линии мученических.
Но возникает естественный вопрос: как это евангелия сохранили свой культовый характер, религиозный, богослужебный, а греческий роман стал светским, мирским жанром? – Здесь нужно прежде всего сказать, что и греческий роман вполне сохранил черты своего богослужебного происхождения, вроде «Руфи», которая осталась при Пятидесятнице словесной частью богослужения. Дело в том, что языческие боги плодородия имели свои жизнеописания, которые представляли собой рассказы о «делах и страстях ужасных и великих»; эти боги мало-по-малу стали казаться просто героями и выдающимися людьми. Священные сказания обратились в жизнеописания; чтобы придать им правдоподобие, их стали составлять якобы по воспоминаниям очевидцев или на основании строго проверенных источников. По характеру такие жизнеописания сделались деяниями, по форме воспоминаниями. Так, самое законченное евангелие, составленное по Луке, именует себя рассказом о событиях вполне достоверных, тщательно исследованных, составленных по воспоминаниям – рассказом о страстях и делах Христа. С другой стороны, создаются «деяния апостолов», на основании якобы воспоминаний сподвижников апостолов. И евангелие Луки и деяния апостолов, не будучи письмами, представляют собою, по общей форме, обращение к ко
|
 
|