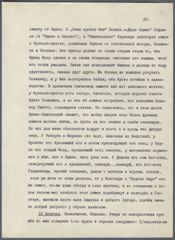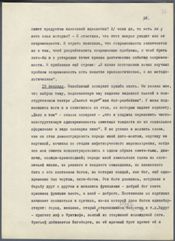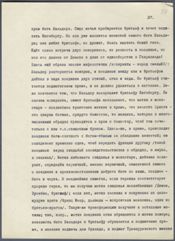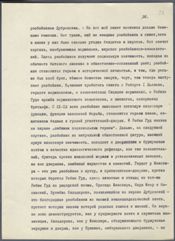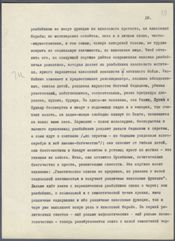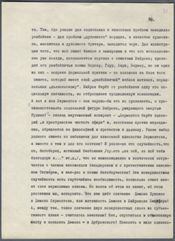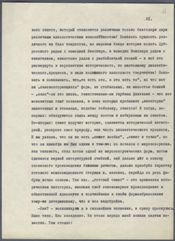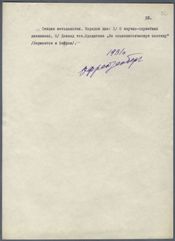О неподвижных сюжетах и бродячих теоретиках (из служебного дневника)
Опубл.: О неподвижных сюжетах и бродячих теоретиках : (из служебного дневника)/ О. М. Фрейденберг ; публ. и коммент. Н. В. Брагинской // Одиссей : человек в истории : представления о власти. 1995. – М.: Наука, 1995. – С. 272–297.
|
сюжету об Эдипе. В «Семи против Фив» Эдипа, в «Царе Эдипе» Софокла (и «Эдипе в Колоне»), в «Финикиянках» Еврипида действует сюжет о братьях-врагах, рожденных Эдипом от собственной матери, Полинике и Этеокле. Эти братья делают со своим старым отцом то, что Франц Моор сделал и со своим стариком: заточают его заживо, чтоб его сочли умершим1. Затем они завладевают Фивами и должны по году царствовать, сменяя друг друга. Но Этеокл не пожелал уступить Полинику, и у Фив возгорелась бойня; оба брата погибли в единоборстве. В архаичном греческом сюжете еще нет любовного мотива; у братьев-врагов есть сестра, Антигона, которая хоронит своего брата Полиника, и за это ее заживо погребают, как монахиню Вальтер Скотта, отдавшуюся сатане2. Не сомневаюсь, что в этом месте Франк-Каменецкий скажет, что мотив смерти есть более древняя замена мотива любви, но пусть он это скажет в своем семинарии3. Но что для меня облекается вдруг в плоть и в кровь, это фигура отца. У Роберта и Мерлина это черт, виновник их бедствий; у Эусебио это бросивший его и потом преследующий его отец; у Карла это старый Моор, проклявший его; наконец, у мессинских норманнов в нем, как в Эдипе, весь узел зол. У Демона это сам бог-отец, отвергнувший его и проклявший, пожалуй... пожалуй, это бог-отец «Гаврилиады», третий соперник, рядом с ангелом и чертом. Кстати, если уж итти по этим рельсам, то у Шекспира в «Короле Лире» тот же сюжет, те же злые сестры и одна кроткая, и их отношения с отцом таковы же; особенно этот сюжет подчеркнут и повторен в Глостере, имеющем злого сына Эдмунда и доброго Эдгара, причем именно добрый рисуется у обрыва дьяволом4.
18 февраля. Заканчиваю. Надоело. Вчера на консультацию пришел ко мне аспирант 1-то курса и спросил следующее: 1)является ли
1 У Еврипида («Финикиянки», 63 сл.) мотив действий сыновей – скрыть позор забвением; «он живой в доме», – добавляет к этому Иокаста.
2 Имеется в виду известная сцена из «Айвенго».
3 Франк-Каменецкий вел в ИРКе семинар по генетической поэтике, в котором занимался историей поэтических метафор. См. также его опубликованные работы: Отголоски представлений о матери-земле в библейской поэзии / Язык и литература. Т.VIII. Л., 1932. С. 121–136; Разлука как метафора смерти в мифе и в поэзии / Известия АН СССР. 7 сер. ООН. Л., 1935. № 2. С. 153–173, а также теоретическую статью: К вопросу о развитии поэтической метафоры // Советское языкознание. 1935. № 2. С. 93–145.
4 См. подробнее об этом мотиве в работе О. М. Фрейденберг «Слепец над обрывом» (Язык и литература. Т. 8. Л., 1932).
|
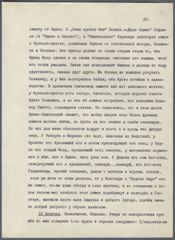 
|
|
сюжет продуктом классовой идеологии? 2) если да, то есть ли у него своя история? – Я ответила, что этот вопрос уводит нас от современности. Я строго пояснила, что современность заключается не в том, чтоб разрабатывать современные проблемы, а чтоб брать хотя бы и с устарелых точек зрения фактические события современности. Я прибавила еще строже: «В плане постановки новых научных проблем современность есть понятие хронологическое, а не методологическое».
19 февраля. Назойливый аспирант пришел опять. Он заявил мне, что выбрал тему, подсказанную ему недавно виденной пьесой в конструктивном театре «Святой черт или бог-разбойник». У меня подкосились ноги и я схватилась за стол, за которым выдают зарплату. «Дело в том» – сказал аспирант – «что я задумал переложить чисто-конструктивную одновременность сюжетных тождеств на их социальное оформление в виде сценария кино». И не успела я молвить слова, как он стал демонстрировать передо мной лито-монтаж, картину за картиной, начиная со стадии мифотворческого мировоззрения, когда все мои сюжеты концентрировались в одном образе света-тьмы, дня-ночи, солнца-преисподней; передо мной замелькали сцены из охотничьей жизни, из раннего и позднего земледелия, из племенного быта с его пантеоном богов, из которых каждый, как бог, еще одновременно был чертом, анти-богом. Эти боги двоились, вступали в борьбу друг с другом и менялись функциями – добрый бог света принимая функцию злого, а злой – доброго. Постепенно на картинах начинает появляться и причина, из-за которой двое богов единоборствуют: город, женщина, старый, отщепившийся образ бога-отца и т.д. Вдруг – прыгает миф о Фритиофе, взятый из старинной исландской саги. Фритиоф добивается Ингеборги, но ее мрачный брат прячет ее в
|
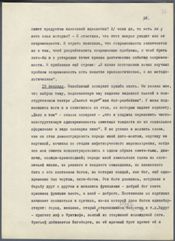 
|
|
храм бога Бальдера. Сюда ночью пробирается Фритиоф и хочет похитить Ингеборгу. Но она уже мыслится невестой самого бога Бальдера; она любит Фритиофа, но дрожит, боясь вызвать божий гнев. Идет сцена встречи двух соперников, их ревность и поединок, но как это далеко от «Демона» и даже от единоборства в «Гавриилиаде»! Здесь еще образы вполне мифологичны (аспиранты – народ смелый!): Бальдер разгорается пожаром, и поединок между ним и Фритиофом дается в виде поединка двух стихий, огня и воды. Но Фритиоф считается поджигателем храма, и он должен удалиться в изгнание. Дело кончается тем, что Бальдер возвращает Фритьофу Ингеборгу. По словам аспиранта, сюжет Фритьофа показывает, что мотив в монастыре – позднейшая трактовка мотива в храме, что невеста Христа – это сперва богиня, супруга божества, та женщина, которая в многочисленных обрядах приводится в храм к божеству, чтоб там сочетаться с ним т.н. священным браком. Здесь же, в храме, происходит поединок бога-светлого с богом-темным за обладание невестой; ею овладевает временно один, чтоб передать функции другому (такой поединок перед свадьбой засвидетельствован в обрядах, в мифах, в сказках). Мотив любовного свиданья в монастыре, добавил аспирант, определен первичной, именно первичной, семантикой сюжета о поединке и противопоставлении доброго бога со злым, позднее – бога и черта. В позднейших сюжетах, если героиня соответствует природе героя, то мы получим мотив свиданья возлюбленных (Демон, Эусебио, Фритиоф); если нет, мотив насилия и покушения на целомудрие врага (Франц Моор, дьяволы – искусители монахинь, один из братьев-врагов). Такую же трансформацию получают и остальные мотивы; так, например, мотив поединка огня обращается в мотив пожара; ненависть бога Бальдера к Фритиофу обращается в поджигание храма, в желание поджечь дом Орландо, в поджог Троекуровского имения
|
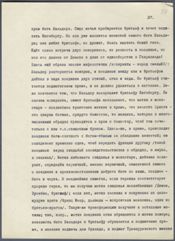 
|
|
разбойником Дубровским. – Но вот мой сюжет поскакал дальше бешеными темпами. Вот греки, еще не введшие разбойника в сюжет, хотя в жизни у них было сколько угодно бандитов и пиратов. Вот скачет картина, изображающая норманнов, мировых разбойников-завоевателей. Здесь разбойники получают социальную значимость, попадая из обычного бытового явления в общественно-осознанный факт; разбойник становится героем и исторической личностью, и там, где раньше был злой брат, темное божество смерти, черт, там теперь выступает разбойник. Начинают пробегать сюжеты о Роберте I Дьяволе, герцоге норманнском1, о завоевателях Сицилии норманнах, о Робине Гуде времен норманнского завоевания, о викингах, соперниках Фритиофа. С 11–12 века разбойник выполняет активную классовую функцию, функцию классовой борьбы, становится героем низов, защитником бедных и грозой угнетателей-дворян. И Робин Гуд назван на экране «любимым национальным героем». Дальше, на следующей картине, разбойник из актуальной общественной фигуры, имеющей яркую классовую значимость. попадает к дворянским и буржуазным поэтам в качестве идеологического рафинада, как тип положительный, бунтарь против мещанской морали и установленных законов, но как дворянин, лишенный имущества и поместий. Герцог у Шекспира – это уже разбойник в шутку, и притеснители-дворяне, против которых борется Робин Гуд, здесь животные и птицы; но тот же Робин Гуд из рыцарской поэмы, Орландо Шекспира, Карл Моор и Косинский, Эусебио Кальдерона, появляющийся на экране Дубровский – это благородные разбойники из высшей землевладельческой знати, протест которых вызван потерей родовых замков и имений. На экране ясно демонстрируется, как у придворного поэта и служителя инквизиции, Кальдерона, как у Шекспира, обслуживающего буржуазные верхушки и дворян, как у Пушкина, либерального дворянина, – их
1 Историческую основу легенды о Роберте Дьяволе (признаваемую далеко не всеми) прослеживал Боринский: K.Borinski. Zur Legende von Robert dem Teufel Zeitschrift für Völkerpsychologie. Bd. XIX. S. 84; Eine ältere deutsche Bearbeitung von Robert le Diable Germania. 1892. № 1. S. 60, ср. Ив. Жданов. Василий.... // ЖМНП. 1894. III. C. 95 сл. См. историю этого герцога в норамнской исторической хронике: Les cronicques de Normendie (1223–1453); Réimprimées Pour La Première Fois D'après L'édition Rarißime De Guillaume Le Talleur (mai 1487) avec variantes et additions tireés d'autres édition et de divers manuscrits, et avec une introd. et des notes par A.Hellots. Rouen, 1881.
|
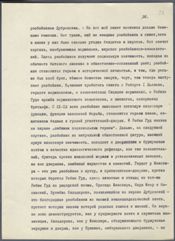 
|
|
разбойники не несут функции ни классового протеста, ни классовой борьбы; но мотивировка остается, хотя и в личном плане, чисто-имущественная, и тем самым, поверх авторской головы, не трудно вскрыть их социальную значимость, их классовое лицо. Чтоб оттенить его, на следующей картине дается современная низовая разбойничья романтика, которая делает из разбойника классового мстителя, яркого выразителя классовой ненависти и активного бойца. Разбойник заменяет и предвосхищает революционера, защищая обездоленных, спасая детей, раздавая имущество богачей беднякам, убивая угнетателей, собственников, состоятельных, равно преследуя дворянина, кулака, буржуя. Но здесь же показано, как Разин, Пугач и Кудеяр бессмертны и живут в подземных садах и в пещерах, где считают золото, на лодке-ковре свободно плывут по Волге, взвиваются на конях выше леса1. Кармелюк – полон милосердия, бескорыстия и высшего призвания2; разбойники раздают деньги беднякам и сиротам, а сами идут в скитание («по сиротам – по бедным раздавали злато – серебро и все имение-богачество»3); они спасают от гибели детей, они благочестивы и блюдут молитвы и уставы; крест на могиле – это главная их забота4. Итак, они остаются Эусебиями, почитателями благочестия и креста, ревнителями святости. Эта картина носит название: «Генетическая основа не прервана, но увязана с новой социальной значимостью и получает различные классовые функции». Дальше идет лента с переключением разбойника снова в черта; как разбойник, с социальной и с семантической точек зрения, имел различные содержания и нес различные классовые функции, так и черт уже выполняет новую роль в классовой борьбе. За серией религиозных сюжетов – еще раньше мифологических – еще раньше космогонических – теперь развертывается лента с новой семантикой чер
1 «По преданиям, Разин или Пугач жив доселе и сидит в пещере, считает окружающее его золото; Кудеяр – разбойник разгуливает около кладов в невидимом, подземном роскошном саду; вообще по рассказам народа, атаман разбойников всегда окружен был чудной силой и властью, вместо лодки расстилал ковер по Волге и плавал свободно, взвивался на лошади от преследований выше леса стоячего и проч.» (Аристов Н. Об историческом значении русских разбойничьих песен. Воронеж, 1875. С.165; ср. предание о жизни Стеньки на отдаленном острове: Там же. С. 51).
2 Фрейденберг использует здесь опубликованное в «Киевской Старине» (1886, март. С. 499) беллетристическое (хотя и рекомендуемое как основанное на источниках) произведение польского писателя Ролле «Кармелюк».
3 Цитируется по Аристову (Об историческом значении... С.140): Раздавали разграблено злато-сереброИ все имение богачествоПо тем ли сиротам по бедныим,По тем ли церквам по божиим;Сами пошли скитатися по разным странам.
4 См. Аристов. Об историческом значении... С. 50 и 140–141.
|
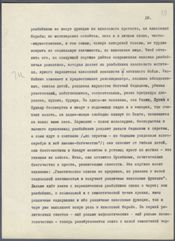 
|
|
та. Там, где раньше для социальных и классовых проблем выводился разбойник – для проблем «духовного» порядка, в качестве кудесника, мыслителя и духовного бунтаря, выводится черт. Для иллюстрации того, что мой сюжет близок к вымиранию и что его использование уже позади, показывается картина с сюжетами Байрона; проходят его разбойничьи поэмы Корсар, Гяур, Лара, Вернер, но ни одна из них – вопреки формальной критике – не заложена на базе того сюжета, который имеет свой «разбойничий» шаблон мотивов, параллельных «дьявольскому». Байрон берет от разбойника одну его социальную значимость, но отбрасывает традиционную композицию. «А вот и наш Лермонтов – как хорошо бы его не сравнивать, а противопоставлять социальной фигуре Байрона, умирающего смертью Рудина!» – сказал неугомонный аспирант – «Лермонтов берет сценарий «в пространстве чистого эфира» и, восставая против мироздания, обращается за философией и протестом к дьяволу. Разве выбор данного сюжета не любопытен для классовой идеологии Лермонтова, а вместе с тем и для его поэтики? И разве же это случайность, что он, богоборец, истинный безбожник (ср. его «за все, за все тебя благодарю я...» и т.д.), что он композиционно и поэтически встречается с членом инквизиции Кальдероном и с протестантским епископом Тегнером, и как раз в поэме богоборчества? Эта поверхностная случайность есть глубочайшая необходимость, посколько сюжет имеет свои неумолимые законы. Но поэты об этом не знают, об этом расскажем мы, аспиранты. Что нам дает сличение Демона Пушкина и Демона Лермонтова, или мятежность Демона и Байронова Люцифера! А, между тем, такое сличение двух поверхностных слоев из субъективного плана – считалось законным! Вот, спуститься в объективную шахту и показать Демона – и Дубровского! Показать в виде одинако
|
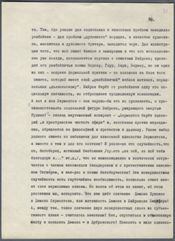 
|
|
вого сюжета, который становится различным только благодаря двум различным идеологическим наполненностям! Доказать сущность различного на базе тождества, на широком блюде истории подать Дубровского рядом с комедией Шекспира, а комедию Шекспира рядом с евангелием, евангелие рядом с разбойничьей песней – и все это развернуть в перспективе исторического, по настоящему диалектического,процесса, в виде подвижного классового творчества!1 Показать и показывать, что «то есть это, а это есть то», но что нет ни «самовозгорающихся» форм, ни стабильных, ни милостью божией – «сама» ли это жизнь, таинственные ли глубины фантазии – что нет монолитных глыб сознания, в лоне которых пребывают «категории» вплетенных и втканных, подобно гобелену, сюжетов! И тогда, во-первых: обнаружится связь между поэтом и избираемым им сюжетом. Во-вторых: сюжет получит историю, сделается исторической категорией, раскроет свою природу, как часть диалектического процесса. И мы узнаем, что он не есть «сюжет вообще», «сюжет и точка», но что он никогда не был одним и тем же; он начался с мировоззрения, как такового, стал потом одной из мировоззренческих форм, потом сделался первой литературной ячейкой, еще дальше лег в основу словесного произведения главным рычагом, дальше приобрел характер готового композиционного стержня и, наконец, перейдя на роль фабулы исчез совсем. Так называемый «готовый сюжет» – это временная историческая категория, имеющая свое закономерное происхождение в общественной идеологии и подчиненная в своем формообразовании тому же детерминизму, что и вся надстройка.
– Как? – воскликнула я в сильнейшем волнении, и сразу проснулась Было тихо. Шло заседание. На столе передо мной лежала смятая повестка. Там стояло:
1 Одновременная демонстрация различий на «блюде истории», которую предлагает «аспирант» напоминает симультантную сцену в театре Марра-Мейерхольда, навеянную знаменитым Мейерхольдовским «Ревизором». Только в «спектакле» сопоставленные варианты сюжета не были «разностадиальны»; во всяком случае это было не существенно. Реминисценция, возможно, не вполне осознанная, из истории этого спектакля заключена, по-видимому, и в упоминании «блюда». Критикуя спектакль и, в частности, чрезмерно выдвинутую в нем роль городничихи в исполнении З. Райх, В. Б. Шкловский назвал свою рецензию «Пятнадцать порций городничихи» («Красная газета» от 22 декабря 1926 г.), которые «подавались» на блюдцах-выдвижных площадках в пятнадцати эпизодах постановки. Это «блюдце» из скандальной рецензии Шкловского так основательно «прилипло» к памяти о постановке Мейерхольда, что В. А. Каверин, вспоминая ее спустя много лет, снова говорит (уже от себя) о «блюдечках-площадках», на которых то в одном, то в другом углу сцены «подавались» явления (Каверин В. А. Гоголь и Мейерхольд // Собрание сочинений в восьми томах. М., 1983. Т. 8. С.295). Нельзя не признать это наше примечание сугубо факультативным. Но разве ткань истории состоит не из таких ниточек?
|
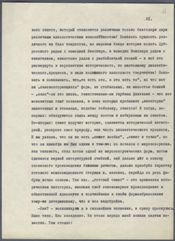 
|
|
«Секция методологии. Порядок дня: 1) О научно-служебных дневниках, 2) Доклад тов. Бродягина «За социалистическую поэтику» (Лермонтов и Байрон)».
1931 г.
О. Фрейденберг *
|
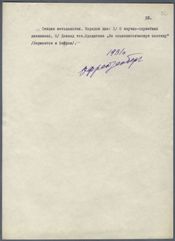 
|