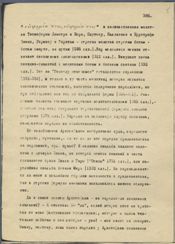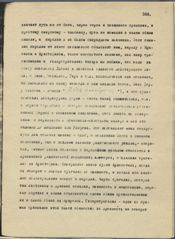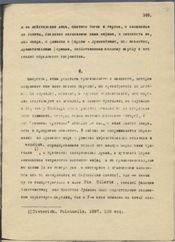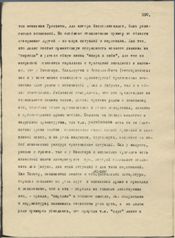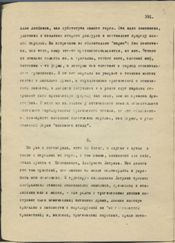Идея пародии : (набросок к работе)
Опубл. Идея пародии: (набросок к работе) // Сборник статей в честь С. А. Жебелева. – Л., 1926. – С. 378–396. – Машинопись; хранится в Российской государственной библиотеке в Москве и Российской национальной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Санкт-Петербурге.
|
“εὐφημία ᾽στω, εὐφημία ᾽στω” и величественная молитва Тесмофорам Деметре и Коре, Плутосу, Каллигене и Куротрофе, Земле, Гермесу и Харитам – строгая молитва строгим богам – богам смерти, не шутки (295 слл.). Хор молящихся женщин отвечает священными славословиями (312 слл.). Вступает снова женщина-глашатай с молитвами богам и богиням светлым (332слл.). Это ее “Господу помолимся” оставляется серьезным (332–334), и только в ту часть молитвы, которая касается человеческих отношений, вносится содержание пародийное, но при соблюдении все той же сакральной формы (334–351). Участницы таинств отвечают хоровыми молитвословиями (352 слл.), — и тогда глашатай открывает торжественной формулой женское собрание (372 слл.). Пародия на священную службу окончена, начинается пародия на общественность.
Но излюбленные Аристофаном изображения суда, народного собрания, пританеи, — не та же ли это пародия средневековья на парламент, суд, право? И нелепая свадьба жалкого человека с дочерью Зевса, на которой поется гименей в честь священного брака Зевса и Геры (“Птицы” 1731 слл.), или пародийная свадьба богини Мира (1332 слл.). Не перекидывается ли мост к свадебным обрядам античности и средневековья, где в строгие формулы венчания вкладывалось мнимое содержание.
Да и самые сюжеты Аристофана — не пародия-ли священных сказаний? — Я ответила бы “да”, еслиб вопрос этот не требовал от меня фактических обоснований, которых я здесь тщательно избегаю и без которых — увы! — мне никто не поверит.
Скажу, поэтому, лишь одно: пародии у Аристофана священных
|
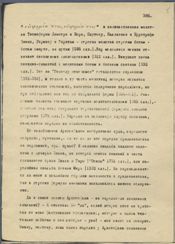 
|
|
преданий*, богослужебных обрядов и молитв — это полная параллель к средневековым пародиям — литургиям и пародиям — сюжетам, * при общем пародировании всех бытовых узаконений и, в первую очередь, власти.
7.
Наблюдение над образцами пародии показывает, что связь ее с религиозными обрядами и словесами или ее приурочение к религиозным праздникам — не случайна: первоначально пародировалось именно все самое священное — боги и их обиход, и перенесение пародии на “власть предержащую”, на царей, правителей, народное собрание — парламент, на судей и все основные формы гражданственности — было вторичным. Как в Средние Века действующими лицами пародии являются бог и богородица, — так еще у Аристофана рудиментарно выводятся Дионис, Посейдон, Гермес, Плутос, Полемос, Ирина, Опора и т. д.; мы застаем еще у него Прометея, Геракла, Харона, Эака и пр. Это должно вызвать в нас воспоминание о более ранних образцах т. н. “древней комедии”, напр. об Эпихарме с его “Свадьбой Гебы” и насмешкой над верховными богами, во главе с Зевсом, или о Кратесе с его “Дионисом”, или о Кратине, у которого мы еще можем встретить среди главных действующих лиц Диониса и троянских героев; на противоположном конце, для оттенения, мы поставим Менандра, как изобразителя чистого быта и человеческих характеров. Вообще, если давно было известно, что древняя комедия начала с пародирования мифа и перешла к “очеловечиванью” лишь со временем, то это только обо
|
 
|
|
значает* путь ее от бога, через героя и священное предание, к простому смертному — человеку, путь не комедии в нашем общем смысле, а пародии в ее былом сакральном значении. Этот генезис пародии от всего священного объясняет нам, наряду с Кратином и Аристофаном, такое непонятное явление, как жанр трагикомедии и гиларотрагедии: теперь мы поймем, что если на сцену выводился Дионис в качестве главного действующего лица, а Зевс, Посейдон, Гера и т. д. эпизодически или косвенно, то выводился на сцену некогда и сам владыка богов, Зевс (ср. у Платона — * комика “ Ζεὺς κακούμενος ”), и что существовала литературная форма — опять таки сценическая, т. е. в корнях обрядовая — которая специально пользовалась возвышенной формой и священным сказанием, чтоб лишать их содержания и передавать в комически-ничтожном виде, — и все это задолго до Помпония или Ринфона. Это заставляет меня отвергнуть два ходячих мнения — одно, о появлении богов в смешном положении, как о позднем явлении религиозного упадка, — напротив, именно связь божества с пародийным началом относится к древнейшей религиозной концепции; и второе, о влиянии трагедии на Аристофана. Совершенно иначе судит Аристотель, когда он говорит о выходе трагедии из смешного, и взгляд его находит подтверждение именно в пародии. Черты трагедии, которые так явственны в древней комедии, смежность в композиции, хоровых партиях и языке объясняется одним общим происхождением их и одной общей их природой. Гиларотрагедия — один из прямых признаков этой былой общности: за древность ее говорят
|
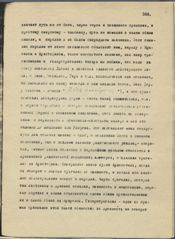 
|
|
и* ее действующие лица, пантеон богов и героев, и священные ее сюжеты, безлично называемые нами мифами, и смежность ее, как жанра, с флиаком и фарсом — древнейшими, как известно, драматическими формами, свойственными каждому народу в его стадии обрядового творчества.
8.
Напротив, этим родством трагического и смешного, которое вскрывает нам идея всякой пародии, мы пренебрегать не должны. Не случайно, конечно, а глубоко показательно, что пародия сопутствует не комедии, а именно трагедии; не случайно и то, что у Менандра или в римской комедии мы не встречаем того элемента, который очень неточно называем сатирой, и что “смешная трагедия” доходит до нас в виде целого жанра, хотя и превратно понятого. И сейчас же напрашиваются параллели: из древнего мира — римская мифологическая ателлана и exodium, пародировавшие только что шедшую перед ними трагедию1, и греческая сатирическая драма, в шутливой форме замыкавшая тетралогию высокого мифа; а из средневековья, где мы имеем (я не говорю уже о мистериях с комическим элементом или об интерлюдиях на библейские сюжеты), где мы имеем ту же гиларотрагедию в идее Pia Hilaria, веселой фацеции благочестия; как безбожие Лукиана было подготовлено священным характером пародии, так в X-м веке комедия из житий свя
1 Dieterich, Pulcinella, 1897, 109 sqq.
|
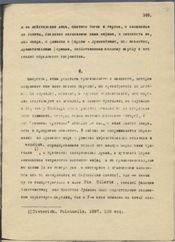 
|
|
тых* монахини Гросвиты, для автора бессознательно, была религиозно возможной. Но особенно показателен пример из области совершенно другой — из мира ситуаций и персонажа. Для тех, кто давно постиг примитивную погрешность всякого деления на “периоды” и уловил общую жизнь “жанра в себе”, для тех не напрасной окажется параллель с трагедией западной: я напомню, что у Шекспира, Кальдерона и Лопе-де-Вега (оговариваюсь: как и у всех менее гениальных драматургов) трагическая концепция идет рядом с комической, как в фабулах, так и в общей композиции. Ребячески говорилось, что это проистекает из гениального знания жизни, дающей трагизм рядом с комизмом; нет, подпочва более прозаическая и более конкретная, лежащая в происхождении драмы вообще. Сошлюсь на полную аналогию в индусской драматургии, где т. н. prahasana* есть та же одноактная драма улыбки, осмеивающая самый высший правящий и священный класс, и на роль видушаки, слуги-шута, несущего за собой комический раккурс трагических ситуаций. Как у индусов, римлян и греков, так и у Шекспира и испанских трагиков есть известный канон литературных форм, который обязывает создавать две фабулы, два хода ситуаций и два типа персонажей. Еще Тикнор, знаменитый знаток и отец истории испанской литературы, обращал внимание на роль слуг в испанской драме и приходил к заключению, что в них — пародия на главных действующих лиц, — правда, “пародия” в обычном смысле, как подражание и каррикатура* ; занимаясь генезисом роли шута, я на целом ряде примеров убеждаюсь, что природа т. н. “слуг” лежит в
|
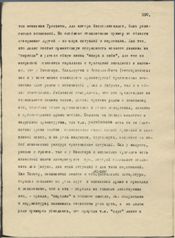 
|
|
идее* двойника, как субститута самого героя. Эта идея замещения, удвоения и введения второго раккурса* и составляет природу всякой пародии. Мы встречаем ее обязательно “парно”: без светотени, без того, чему что-то противопоставляется, ее нет. Оттого не комедия область ее, а трагедия, оттого эпос, высокий миф, теогония — те формы, к которым она тяготеет в период сознательного применения. И оттого пародия не умирает в течении многих веков: в западной драме, в параллелизме трагической и комической завязок, в двойных ситуациях и в ролях слуг пародия сохраняет свою архаическую природу еще чище, чем во времена Аристофана. И если мы наблюдаем у аттического комика сознательное частичное пародирование трагической топики, то это объясняется вне-* аристофановским тяготением пародии, как формы, к родственной форме “высокого стиля”.
9.
Но раз я заговорила, хотя бы бегло, о слугах и шутах в связи с пародией на героя, я тем самым, незаметно для себя, стала думать о Полишинели Альбрехта Дитриха. Мне делать это тем приятней, что именно он может подтвердить и укрепить мои положения. Я группирую наблюдения Дитриха трояко: изображения стенной помпеянской живописи, греческих и италийских ваз и масок, — где рядом с трагическими лицами выступает одна комическая; античная драма, дающая высокую трагедию в смежности с пародирующей ее “мифологической травестией; и, наконец, трагический персонаж, среди кото
|
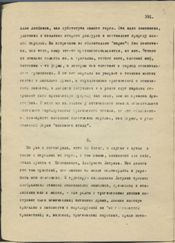 
|
|
рого* неизменно находится одна (по меньшей мере) комическая фигура, как сопутствие герою. Это и есть роль “веселого слуги”. Уже одно такое сопоставление материала у Дитриха показывает параллелизм в происхождении жанра и персонажа и единство пародийной природы, осуществляемой в трагедии-* ли, в отдельном ли герое. И все равно, в конце концов, изучаем ли мы обряд, целый литературный жанр, отдельное ли произведение, или берем только одну роль в этом произведении: мы все равно вскрываем природу пародии, как известную систему архаической мысли, верную себе во всех частностях и во всех обобщениях одинаково.
10.
В самом деле: попробуем вскрыть все симуляции, которые преподносит нам пародия, и мы сейчас же убедимся, что под ними находятся “сущности”. Осла я трогать не буду — ослом я уже занималась и уже находила в нем до-* историческое божество зноя, солнца в его апогее, с последующими элементами плодородия и спасительной стихии: мне ясно, что Золотой Осел, осел под золотым покрывалом, принимает обедню заслуженно, в среде своих вековых почитателей, давно позабывших горячий песок пустыни и построивших городской храм. Как под травестией мифа и отдельного бога-героя скрывается только истинное религиозное представление и бог-герой настоящий, как Амфитрион только заслоняет Зевса, слуга — героя, шутовской царь — царя подлинного, — так
|
 
|
|
все* “дурацкие” обряды носят в себе высокое религиозное верование, только временно замаскированное своим же собственным “подобием”. Я нарочно приберегла к концу одно старинное описание шутовской обедни. Перед нами церковь во власти черни, бродяг, поваров и кухонных мужиков, дворников; они наполняют собою церковь и совершают богослужение. Одеты они в священное облачение, изорванное в лохмотья или вывернутое на изнанку; в руках у них молитвенники, переплетом к лицу или вверх строками; на носу огромные очки без стекол. Кадильницы они так трясут, что пепел летит по всей церкви и осыпает каждого из них. Они не поют ни псалмов, ни гимнов, но пронзительно несут тарабарщину и пищат, подобно стаду бичуемых свиней1. Вот, следовательно, единый фронт архаической системы мысли: перевернутое наизнанку богослужение, равно как и социально-перевернутый клир, песнопение, одежда, молитвенник, даже голос. И все-таки это только изнанка “παρά’’, то “παρά”, которое и есть природа пародии (παρ-ῳδία), как вывернутой наизнанку песни: но, ведь, неправда-* ли, на оборотной ее стороне всегда лежит ее лицо подлинное, ее осмысленность и ее сущность. Голос людей, но не поросят; гимн, а не рев; церковные облачения, священнослужители, обедня настоящие. И, следовательно, само духовенство, пародирующее бога, где-то и в чем-то есть тот
1 Disraeli, o. c. 259–260.
|
 
|