|
О.М.Фрейденберг
Миф об Иосифе Прекрасном
Mythe de Joseph
1
Под мифом об Иосифе Прекрасном я разумею не историю библейского героя, а формулу мифов, по которой замужняя женщина заманивает в любовные сети целомудренного юношу, терпит неудачу и клевещет на невинного своему мужу, мстящему смертью. В эпилоге, обычно, юноша избегает смерти, а козни женщины вызывают заслуженную кару. 1
Для этого сюжета, оформленного в стереотипный комплекс именно таких мотивов, любопытна ивариантность, говорящая сразу же о том, что мы имеем дело с сюжетом, вся живая история которого позади; где нет различий, там нет жизни; сюжет обратился в курсирующую монету фабулы.
Для нас самой привычной является библейская версия мифа, хотя в основном она мало отличается от египетской в «Повести о двух братьях», от индусской в «Семи мудрецах», от малоазийской в «Сирийской богине», от сказочных и т.д. Греция знала этот миф наряду с другими народами; греческий Иосиф Прекрасный – это гомеровский Беллерофонт, а там и Ипполит, жертва Федры. Кроме этих двух, наиболее популярных, греческих Иосифов, существовало еще много мелких; фабула этого мифа была широко распространена, и так наз. греческий роман дал (подобно римскому) много ее повторений. Мы до того привыкли к этой фабуле, что она не кажется нам странной или несуразной; между тем, ее наиболее характерные черты именно несуразны и странны. Правда, на первый взгляд она 1 Быт., 39 7 сл.
|
 
|
|
«подкупает своей жизненностью»; но, взглянув на нее пристальней, мы сейчас же увидим, что она именно противоречит жизни. В самом деле, почему у всех народов так привился мотив о молодом человеке, который отказывается от любви обольстительной женщины? – Он целомудрен и девственен – отвечает сюжет. Прекрасно, скажем мы, но ведь обычно в этой благородной роли принято изображать женщин, а не мужчин; пускай бы сюжет вывел на сцену молодую целомудренную девушку, которая избегает преследований греховодного мужчины – это было бы и понятно, и «жизненно». Откуда, вообще, взялась эта концепция девственного мужчины? Ведь в культе мы ее встречаем редко, хотя гиеродул типа весталок – сколько угодно; я не говорю здесь о так наз. галлах, служителях Кибелы, которые были евнухами, или о различных жрецах (впрочем, малочисленных), временно выполнявших воздержание; во всяком случае, совершенно понятен отказ от любви евнуха, но не цветущего юноши типа Иосифа. И тем интересней и загадочней, что перед нами лежит миф, словно не подтверждаемый культом, – если только не считать позднейших отшельников и монахов. Эта загадка увеличивается еще и оттого, что мы имеем бесконечные варианты культовых романов между богиней и молодым возлюбленным, в форме согласной взаимной любви: Иштарь – Таммуз, – Кибела – Аттис, Афродита – Адонис и т.д. Об Иосифе же уже достаточно известно, что он является модификацией Озириса – Адониса. Но, если это так, как в биографию божества из разряда Адонисов мог попасть мотив целомудрия и отказа в любви Афродите?
2
Итак, самой главной приметой мифа об Иосифе служит целомудрие молодого мужчины, который отвергает любовь замужней, т.е. не девственной, женщины. Эта примета заставляет нас обратиться к тем сюжетам, где героиней является опытная в любви женщина, которая старается заманить в любовную связь девственного мужчину. И вот оказывается, что существует целый цикл таких сюжетов, и что именно они-то, заостряющие наш миф об Иосифе, принадлежат литературе религиозной. Я имею в виду чисто агиографический жанр «искушений». Как известно, существует большой цикл сюжетов с такой тематикой: распутная женщина на пари отправляется к аскету и начинает искушать его; сначала он борется с желаниями плоти, но затем им поддается, и от автора зависит в одних
|
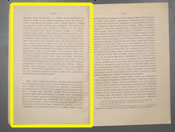 
|
|
случаях довести, а в других не доводить героя до гибели. Но каков бы ни был эпилог, герой является «мучеником» в культовом смысле, и как-раз в монастырской и благочестивой литературе этот эротический сюжет получает канонизацию, вопреки соблазну его установки. Приведу некоторые примеры. К св. Макарию приходит дьявол под видом красивой грешницы, которая просит принять ее; святой поддается искушению, и потом длительно искупляет* свой грех.1 Другой аскет, искушаемый красивой гетерой, поддается насильственной любви.2 В житии св. Северина и Викторина есть такой же эпизод грехопадения аскета.3 Но имеется целый ряд вариантов, где святость мученика одерживает верх над грехом, а распутная женщина обращается на путь веры. Итак, здесь в роли опытной в любви, зрелой, замужней женщины выступает куртизанка, а в роли целомудренного мужчины – отшельник, монах или святой. Как я только что сказала, этот мученический сюжет заостряет основные линии сюжета об Иосифе и показывает его культовую основу. Ибо, если наука старалась убедить нас до сих пор в том, что агиография заимствовала эротический сюжет из светской языческой литературы, то мы, стоя на совершенно иной методологической позиции, захотим вскрыть ту семантику мифа, которая дала параллельные реплики и в светском и в культовом обиходе. С этой точки зрения дистанция, отделяющая сюжет Гомера или Библии от сюжета византийских житий, равняется для нас нулю; и если наука считала себя вправе отождествлять эти сюжеты на основе заимствования, то и мы сейчас, соглашаясь с самим фактом идентичности, объясним его одинаковой семантикой.
Возвращаясь к нашему сюжету, следует сказать, что почти аналогичный вариант встречается в индусском романе, совершенно светском, натуралистического пошиба. Здесь рассказывается, как одна красивая гетера на пари заставляет пасть знаменитого своей святостью отшельника, и как он становится до такой степени подвластен ей, что она возит его с собой по людным улицам города и посещает с ним общественные увеселительные места.4 Таким образом, наш мученический сюжет вовсе не есть спецификум одной христианской агиографии или греческой эротической новеллы; правда, до сих пор его еще не сопоставляли ни с библейским
1 P. Rabbow. Die Legenden des Martinian. Wiener Studien, 17, 1895, 262 sq., 266.
2 K. Kerenyi. Die Griechisch-Orientalische Romanliteratur, 1927, 208.
3 Rabbow. 265; Kerenyi, 210,217.
4 Dandin. DaaakumMracarita (Приключения десяти принцев), гл. П, ч. 1, 1888, ч.П, 1891, Bombay. Имеется неполный русский перевод Ф.И. Щербатского, Восток, 1923–1925 гг.
|
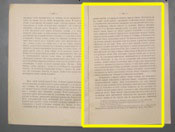 
|
|
мифом, ни с гомеровским, но не будь этих мифов вовсе, наличие параллели в светском индусском романе должно было бы предостеречь исследователей от объяснений эротического сюжета житий – заимствованьем из греческой литературы. Однако, продолжим именно мифологический анализ. Агиография тем помогает нам, что явно обнаруживает культовый характер и героя, и самого сюжета. Помогает она и тем, что дает очень ценный вариант нашему мифу: в одном случае герой поддается любви, в другом – нет. И вот этот последний вариант совершенно совпадает с нашим мифом. Но прежде чем в него всмотреться, обратимся к типологии мифа об Иосифе. Всегда ли герой так уж непримирим к любви? Гомеровский Беллофонт отвергает, правда, связь с Антией, но кончает ведь тем, что женится на ее дочери,1 – а ведь мифологически мать и дочь тождественны. Можно, конечно, возразить, что он отказывался не от легальной любви, а только от адюльтера, и в этом то его целомудрие и состояло; но мифологическое мышление было совершенно конкретно и такой морали еще не знало. Раз перед нами миф, мы должны понимать его не отвлеченно, а дословно, и вариант, где перед нами целомудренный юноша – это монах, а замужняя женщина – куртизанка, указывает на то, что чистота Иосифов первоначально понималась в физическом смысле, а греховность замужних женщин, как черта тоже физическая. Но сам Иосиф? Миф передает, в качестве эпилога, об его заточении в темницу; что до Ипполита, то он умирает; Беллерофонт усылается на верную смерть, но, в конце концов, женится. Итак, там, где у отшельника и гетеры наступает момент соединения, – у героев типа Иосифа мы видим, обычно, смерть или ее эквиваленты. Обращаясь, после этого наблюдения, снова к агиографии, мы можем увидеть и тут новые черты, особенно в том цикле сюжетов, где отшельник, подобно Иосифу, избегает искушения. Здесь конец таков: умирает не герой, но покаранная героиня – первый случай; умирает плоть героя или и героя и героини – второй случай; средством к сохранению целомудрия является мысль о смерти тела – третий случай. Приведу иллюстрации. Существует, как я уже сказала, цикл сюжетов о совращении гетерой, на пари, отшельника. Когда те, кто держал с гетерой пари, приходит посмотреть, как она справилась со своей миссией, они находят ее мертвой. Здесь же мотив умерщвления плоти конкретно передается в том, что монах, желая избе
1 Ib., 1955 sq. Да и Иосиф женится на дочери своей преследовательницы, Быт., 41 45.
|
 
|
|
гнуть соблазна, сжигает палец; 1 не говоря уже о том, что палец, как метафора, эквивалентен фаллу, самый эпизод сожжения пальца заменяет сожжение тела. И, наконец, в третьем случае, в момент наивысшего искушения аскет либо вспоминает, что тело обречено смерти, либо получает это напоминание свыше.2 Так или иначе, мы добываем ценный параллелизм мотивов: любовное соединение – смерть. В сюжетах об Иосифе избежание любви влечет гибель, т.е., говоря на языке метафор, любовь заменяется смертью; в сюжетах о гетере и девственнике мы видим, опять таки, или любовь – или целомудрие, вслед за которым идет телесная смерть.
Таким образом, целомудрие, – отказ от любви или преодоление любви, – влечет за собой смерть и заканчивается, как мотив, смертью.
3
Сюжеты о гетере и отшельнике имеют очень слитную смежность с такого рода вариантом: герой – девственный юноша, мирянин или святой, а героиня – куртизанка, которая всячески искушает его, и либо сама с ним сходится, либо привозит его к ожидающей невесте. Разница с предыдущим циклом лишь та, что этот девственный мужчина – дурачок, глупец. Оба цикла частично совершенно совпадают. Так, существует миф такого содержания: в стране, страдающей от засухи, только тогда пойдет дождь, когда в нее будет привезен человек святой жизни, брахманчарин, который нарушит свою абсолютную святость и свое абсолютное целомудрие любовной связью с женщиной. Такой святой находится. Это молодой отшельник, никогда не видевший изображения женщины и не подозревающий об ее существовании. К нему отправляют корабль с гетерами, и одна из них, воспользовавшись его глупостью и наивностью, завлекает его на корабль и привозит к царю. Конечно, царь женит его на своей дочери, и одновременно с их браком начинает итти дождь.3 В этом сюжете герой изображается равно и святым, и дураком. Подобно многим сказкам, в этом мифе герой является дураком до женитьбы, но становится умным немедленно после брака или, точнее, в браке. Отсюда – тип так наз. «чистого дурака»,
1 Rabbow, 255–256. Это сюжет «Отца Сергия» Л.Н. Толстого.
2 Rabbow, 261.
3 Mahabharata, 111, 110, 22 sq. Литература: Luders, Die Sage von Rishyaaringa, Nachrichten Konigl. Gesell. Wiss. Gotting. ph.-hist. Kl., 1897, 87 sqq.; L.v. Schroder, Mysterium u. Mimus im Rigveda, 1908, 292 sq, 295 sq.
|
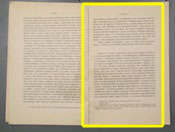 
|
|
т.е. чистого в конкретном смысле, целомудренного, девственного.1 Самый яркий пример – это греческий Маргит, типологический «дурак», герой поэмы, которая приписывалась Гомеру. Этот Маргит не знал женщин, не знал и того, как с женщиной соединиться, и, хотя был женат, продолжал оставаться девственным. Наконец, жена прибегает к хитрости и, путем обмана, заставляет его стать своим мужем.2 В этом сюжете все элементы нашего мифа: целомудрие мужчины, отсутствие связи с женщиной и активная роль не чужой уже, а собственной жены. Однако, этот вариант очень ценен для нас, так как он показывает, что герой мифа отказывается от соединения с женщиной вовсе не из-за отвращения к адюльтеру (ведь жена здесь своя!), а женщина настаивает не из соображений порока. Но, кроме негативных выводов, этот сюжет ценен и своей положительной стороной. Так, индусский вариант прямо сказал нам, что нарушение целомудрия было необходимо для всей страны, изнемогавшей от засухи, было необходимо обрядово, как средство магического воздействия на небо, остановившее падение дождя. Но еще древнее, за магической обрядностью, лежит семантика самого образа дождя, и мы видим, что этот дождь начинает изливаться в тот самый момент, как аскет становится мужем женщины. Здесь момент изливания дождя уподоблен процессу изливания семени, и это тождество образа,3 передаваемого двумя различными метафорами, вызывает самую возможность строить магический образ вызывания дождя при посредстве
1 L. Schorder, 293.
2 Eust. ad Odyss., 1669, 47 sq.; Suid. s. v. Margites; Hes. s. v. Margeites; Dio Chr. Or., 67 § 4. Этот мотив из «Маргита» следовало бы сопоставить с мотивом из «Дафниса и Хлои» Лонга (Дафнис не умеет соединиться со своей возлюбленной Хлоей, и получает знание любви от замужней женщины, питающей к нему страсть). Действительно, этот мотив, казавшийся мне странным и только порнографическим, «в угоду публике», вполне проясняется от такого сопоставления и показывает, как на почве древнего мифа создавалась чиcто-реалистическая метафоричность (Этим указанием я обязана своей матери, А.О.Фрейденберг).
3 О тождестве небесной влаги, дождя и семени см. И.Г. Франк-Каменецкий, Вода и огонь в библейской поэзии, ЯС, 1924, 145. Там же выражение из Талмуда: «дождь есть супруг земли». О земле-супруге неба, оплодотворенной его дождем, у Августина: «Terram vero tamquam conjugem eandemque matrem...fecundis imbribus et seminibus fetet Juppiter» (Civ. D. IV, П). Этот же образ сохранен в античном суеверии: если женщина покажет обнаженный член граду, он прекратится (Geoponik. 1, 14, 1). Cp. «Jam primum abigi grandines turbinesque contra fulgura ipsa mense nudato; sic averti violentiam caeli, in navigando quidem tempestates etiam sine menstuis». См. Heckenbach, De nuditate sacro, 1911, 53. Любопытен фрагмент из затерянной трагедии Еврипида, где сказано: «Ты видишь бесконечное небо (эфир), которое обнимает землю во влажных объятиях: его зови Зевсом, считай богом».Cicer. De nat. deor., II, 65, Stob. Eclog., 1, 3, 2.
|
 
|
|
брака, т.е. препятствует ему. Итак, когда аскет изливает семя, небо изливает дождь, и не только ‛семя’ и ‛дождь’ две тождественных метафоры, но ‛аскет’ и ‛небо’.
4
Только что вскрытая семантика индусской легенды имеет в индусском культе поразительные подтверждения. В праздник солнцеворота брахманчарин (так сказать, послушник) и блудница сперва поносили друг друга, а потом уходили в священное место и там соединялись «с целью рождения года»1 Тексты, сопутствовавшие такому обряду, сохранились в Ригведе. Здесь мы видим, как благочестивый мужчина, свято соблюдающий обет целомудрия, подпадает натиску жены, и в конце концов соединяется с нею. Поразительно, как до сих пор никто не увидел в этом индусском обряде полной параллели к мифу об Иосифе! Ведь здесь самое замечательное то, что акту полового соединения предшествует отказ целомудренного мужчины, и что активной стороной является женщина, Культовое окружение – место действия в священном месте, культовый обет целомудрия – говорит за то, что и наши мотивы не продиктованы только бытом. Да и куда попадают эти сюжеты, как не в богослужебную литературу, один в Веды, другой в Библию? Но самое интересное, что мужчина неспроста так отстаивает свое целомудрие. Уж своя законная жена настаивает на соединении, а мужчина уклоняется и оберегает целомудрие – впрочем, тщетно. Не как Иосиф, но как многие святые отшельники. И что же оказывается? – Что только это и нужно было обряду: непохвальный поступок, ярко кощунственный поступок (ему, святому! в храме!) превращается в праздник, в священный религиозный обряд. Следовательно, следующие мотивы являются необходимыми: целомудрие мужчины, отказ мужчины, агрессивность замужней женщины. В одних случаях это жена (теперь уже ясно, что это может быть своя или чужая), в других, более многочисленных, блудница. До сих пор в мужской роли мы встречали: юношу, святого, дурака, Сейчас Ригведа расширит репертуар. Здесь, в большинстве случаев, рядом с брахманчарином находится, в качестве главного действующего лица, старик, и тогда его партнершей является старуха. Итак, старик хранит обет сакрального целомудрия, но старуха, его жена, склоняет его к нарушению обета, и старик, в конце концов, поддается.2 Сюжет докатывается до одной из новелл
1 L. Schroder, 161 sq.
2 Ib. 163 sq., 171.
|
 
|
|
Мопассана, под названием «В лесу»; в этом рассказе старая жена среди леса и хлебных полей соблазняет своего старого мужа, и потом они попадают в полицию за нарушение нравственности. Эпилог иной – иной быт и мировоззрение! Но живуч персонаж из старика и старухи, творящих акт плодородия, и живуче место действия среди природы, деревьев и полей.1 Однако, именно старик и взят первоначальным сюжетом в виде полной замены – и, следовательно, полного соответствия – юноши.2 Но правда,
1 O coitus in agro см. Mannhardt, Myth. Forsch. 1884, 238 sq., Wald und Feldkulte, 1877, 1, 469 sq., 480 sq. Я чрезвычайно признательна П.Н.Беркову, указавшему мне сказку из «1001 ночи» (N919, Henning) такого содержания. Один человек имел жену, которую очень любил и чтил; имел он также сад, который ежедневно с заботливостью поливал. Однажды жена спросила его, что он посадил с этом саду; человек ответил, что он взращивает там все, что она любит, и для этого он ухаживает за ним и поливает. Тогда жена стала его просить, чтоб он взял ее с собой в сад, и она сотворит там за него молитву. На другой день они оба приходят в сад и муж ждет обещанной молитвы; однако, жена отказывается ее совершить до тех пор, пока муж не соединится с ней. От этого требования муж приходит в отчаяние, так как боится свидетелей и позора. «Разве тебе не достаточно меня дома?» говорит он ей, и ссылается на ожидающую его работу. Жена, однако, начинает упорствовать и настаивать, говоря, что для поливки сада есть много времени. Наконец, муж поддается. Тогда выскакивают двое молодых людей, которые приняли мужчину за нарушителя брака, а женщину за блудницу, и требуют, чтоб эта женщина отдалась им, иначе они донесут судье о публичном непотребстве. Тщетно мужчина говорит им: «это моя жена, и я хозяин сада»; молодые люди убивают его, а затем совершают насилие над женщиной. Эта связка в высшей степени выразительна. Обладание женщиной и садом отождествляется; ‛полить сад’ значит ‛соединиться с женщиной’; насильственное соединение происходит в саду, и ему предшествует отказ мужа, агрессия жены; вслед за половым актом в саду должна произойти молитва; мужчина уподобляется нарушителю брака, женщина – блуднице. П.Н.Берков, не знавший моего материала, привел эту сказку в опровержение моей мысли о фольклорном сюжете Мопассана; с его точки зрения, оба сюжета похожи, но у Мопассана генезис чисто реалистический. Что до сказки, то со стороны реалистичности она не выдерживает никакой критики; если не знать семантики всех перечисленных мотивов, она нелепа (зачем жене, под видом молитвы, соединяться с мужем в саду? какая связь между обладанием женой и садом, между его поливкой и половым актом? почему молитва должна происходить в саду? и т.д.). Однако эта антиреалистическая сказка компрометирует личность Мопассана. Сюжет там и тут одинаков, за исключением, конечно, психологической этиологии; даже одинаков мотив общественного нарушения нравственности (в сказке – публичное непотребство), совершаемого среди растительности, и поимки на месте преступления; в сказке – угроза донести судье, в новелле Мопассана – угроза выполнена, и сконфуженный муж стоит перед мэром. Конечно, эпилог сказки выпущен Мопассаном; место действия среди природы несет психологическую функцию, является поэтизацией, необходимой, чтоб объяснить настроение героини и вытекающий из него поступок. Таким образом, то, что в культе было понятно и целесообразно, то в фольклоре осталось непонятно и несообразно, а в художественной литературе упорядочено новым осмыслением, объединяющим оба противоположных этапа. Ср. у Пушкина в «Гавриилиаде» метафору ‛сада’ и ‛тайного цвета’ Марии: «Ее супруг... седой старик... своею старой лейкой || в час утренний не орошал его (цвета)» (36–37). Метафоры ‛лейка’ и ‛орошение’ были запрещены цензурой.
2 У чувашей во время неурожая отправляют «свадебный поезд» в урожайное место за землей; начальник поезда «жених» – либо старик, либо юноша; он привозит землю для плодородия, и это его брак с нею. Этот брак является и символической смертью для «жениха». Доклад Т.С.Пассек в Яфетическом институте 23 IV 1928 г.
|
 
|