Миф об Иосифе Прекрасном
Опубл.: Миф об Иосифе Прекрасном /О. М. Фрейденберг // Язык и литература. – 1932. – Т. 8. – С. 137–158
|
8
Но если это так, то семантический анализ мифа сам в себе несет и ответ, откуда и когда возник его основной образ: в ранне-земледельческий период под влиянием трудового акта сеяния. Мать-земля оплодотворяется небом, мать-земля обсеменяется и рождает. Но все-ли в формовке данного образа приходится на долю одного ранне-земледельческого периода? Еще глубже, под ним, лежит представление о преисподней, на время поглощающей в себя солнце. Это солнце рождается заново небом, – и небо, собственно, та первоначальная мать, функцию которой несет впоследствии земля.1 И, однако же,несмотря на полное тождество образных структур, их семантика совершенно различна. Материнство, и материнство женское – вот остаток, несущий функцию социологического, а потому и идеологического, различия. Хотя ‛преисподняя’ в стадии космического мировоззрения и умерщвляет ‛солнце’, хотя ‛небо’ и рождает его, но, собственно, ни ‛смерти в земле’, ни ‛рождения из земли’ тут нет,2 – следовательно, нет семантики смерти и рождения из нашего цикла мифов. Только появление метафоры материнства, – а она возможна была лишь в ранне-земледельческий период, с выдвижения хозяйственной и социально-культовой роли женщины, – появляется образ смерти и рождения в женщине и от женщины, по аналогии с землей. Никто до этого времени не замечал, чтоб земля была матерью; она стала ею, когда общественно появилась (а не физиологически) мать, т.е. женщина; параллелизм женщины-земли создался не от осознания подлинных причин материнства, а без каузальности, в силу того, что женщина стала в центре коллективного сознания. Итак, земля – это женщина. Оставаясь без небесной влаги, земля хочет взять ее насильственно. Таково содержание земледельческого мифа. Однако, его форма, его структура, его композиция (небо отказывается быть активным – его выводит из пассивности земля) – форма земледельческого мифа представляет собой былое содержание мифа охотничьего. Типичная формула его позднейших оформлений – в мифах об Ахиле, о Мелеагре, о Кориолане, о Рустеме и мн.др.; герой гневается, отказывается принимать участие в бою, становится пассивным, укрывается, – и только жена (или друг) заставляет его стать снова активным и ринуться в бой. Это миф
1 Н.Я.Марр. Яфетические зори..., 1–2
2 В сюжете это обычные «схождения» и «восхождения» солнца, целиком из стадии космического мировоззрения; ‛земля’ здесь то же, что ‛небо’.
|
 
|
|
о солнце (деривате «неба») и его борьбе с преисподней, но миф до того, семантически, иной и совершенно отличный от нашего земледельческого, что можно говорить о двух стадиях одного и того же мифа. Чтоб искать дальнейшую стадию охотничьего мифа, нужно разорвать его линеарную последовательность и пойти за концепцией «борьбы»; чтоб оглянуться на генезис земледельческого мифа, нужно держать равнение на ‛материнство’. Стадия стадию не продолжает; продолжение – увод в чуждое; процесс стадиальности движется противоречием, и единство этого процесса достигается именно различием. Старая форма и новое содержание – это два борющихся мировоззрения двух борющихся социальных сил. Чтоб стадиально изучить форму, нужно итти за содержанием; чтоб стадиально изучить содержание, нужно пойти за формой. Итак, семантики охотничьего мифа в мифе земледельческом больше нет. Есть только структура: герой насильственно выводится героиней из состояния пассивности. Но вот что замечательно. Охотничий мотив ‛борьбы’ заменяется земледельческим мотивом ‛оплодотворения’. Герой отказывается не в бою быть активным, а в половом соединении: между тем, метафорическое тождество ‛борьбы’ и ‛брака’ дано именно в охотничий период. Но и тут то же: в системе космических представлений охотничьего периода небо и преисподняя связаны мотивом вражды, – в системе земледельческих представлений это муж и жена. Опять старого содержания нет, но есть форма и структура. Так создается композиция наших обрядов и мифов. Обряд остается неподвижен на очень долгие века. Миф с течением времени видоизменяется в своих внешних формах. Развивающиеся общественные отношения вырабатывают систему морали. В общинно-родовой период, когда женщина уступает первенствующее место мужчине и впрягается, с подчиненным положением, в брак, появляется фундамент для одного из очень древних литературных жанров, для жанра обличений о пагубе женской природы, который всей своей стержневой частью строится на нашем мифе. Производительный акт, введенный в пределы браком, вне брака начинает считаться предосудительным. Теперь общественная мораль признает нарушительницей норм всего охотней женщину, подчиненную роду и семье женщину. Женщина сама, скованная рабскими условиями труда и зависимости, всего охотней ищет на стороне удовлетворения своим примитивным желаниям. Внешний мир ей недоступен; но она встречается с ближайшими родственниками своего мужа, в семье которого живет; это по большей части пасынок ее или деверь, а то просто и раб мужа. И вот ранне-земледельческий
|
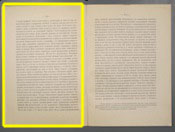 
|
|
образ получает идеологическую актуальность; он с жадностью подхватывается в период развитого земледения мужским коллективным сознанием и перерабатывается по новому. В результате – метафорическая реальность, которая вызвана столько же бытовым укладом и новой идеологией, сколько древним мифом и древней семантикой. В таком реалистическом оформлении миф становится чрезвычайно живуч и популярен; создается сюжет о замужней женщине, которая склоняет своего пасынка, а то и деверя (или раба!) к «преступной» любви. Но общественная мораль требует назидания; она не намерена потворствовать тому, что выходит за пределы ее условных норм, и тех как раз, на которых строится семья. Поэтому женщина терпит неудачу, а вслед за ней и кару. Из сюжета изгоняется мотив любовного соединения и заменяется клеветой, т.е. тем-же любовным соединением, но переданным из действительности в потенцию; теперь женщина рассказывает о том, чего не было, как о том, что, якобы, было,1 и этот описательный рассказ – единственный остаток действительно происходившего в древности акта. Таким образом, мотив клеветы – это изменение родовой идеологией мотива любви, данного в период матриархата.2 Все же генетические пути мифа продолжаются и противоречат функциональным; вопреки историческому настоящему, с ним внутренне увязывается прошлое; и одна метафора заменяется тождественной другой, вместо ‛брака’ выдвигая ‛смерть’. Отныне все такого рода сюжеты заканчиваются местью отвергнутой женщины, и всегда эта месть носит характер смерти. Конечно, в условиях монашества сюжет видоизменяется, оставаясь в той же стадии; здесь героем должен быть отшельник, героиней такая женщина, которая свободно может попасть в пустынь – не упрятанная в дом замужняя женщина, а блудница. Однако, отшельник – это как раз метафорическая фигура ‛божества’, блудница – ‛богини’. Авторы позднего сюжета справляются с тождественностью мифологических образов тем, что располагают их в последовательный ряд: сперва искушение, потом кара за него, сперва отказ от связи, потом усылка на смерть. Это период логического мышления со всей системой каузальности. Древнее такого рода сюжеты, которые изображают образы плоскостно, а не процесуально, одновременно, а не последовательно; таков сюжет о Гефесте,
1 Кроме клеветы, т.е. рассказа о мнимом прелюбодеянии, есть еще следы фактически происшедшего эпизода: одежда Иосифа, оставленная в руках жены Потиафа (а в мифе одежда всегда идентична с ее обладателем), и обстановка встречи. Быт., 39 11,12,13 сл.
2 Термин спорный и условный. Условно-же и применяю.
|
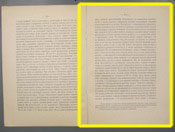 
|
|
оплодотворяющем землю, заставляющем ее рождать Эрихтония, и тут-же показывающий, как Афина есть и дева и эта же самая рождающая земля. Конечно, каузальное мышление вносит потом свои поправки; так, оно говорит об отвращении Афины к семени Гефеста, которое она сбросила с себя на землю; оно говорит, что Иуда избегал брака с Тамарой из боязни смерти. Эта же каузальность заставляет Гильгамеша тоже бояться смерти от Иштар. Однако, несмотря на исключительную распространенность нашего мифа, его оформление очень устойчиво; это говорит за то, что время созидания сюжета лежит далеко в прошлом, а время его использования совпадает с его закостенением. Адонис, покорный любовник Афродиты, благополучно обогнул именно родовую мораль, отщепившись от Иосифа, себя-же самого; и Адонисом насильно завладевает Персефона, но он, настоящий матриархальный бог, подчиненный всецело женщине, слепо идет в смерть, спускается в преисподнюю, покорствует загробной любви. И слепо изменяет Афродите, остающейся в трауре. Но потом Персефона отпускает его, и он так же покорно любит Афродиту, как прежде. Миф тот же; но коллизии нет, потому что нет борьбы двух мировоззрений. Или, точнее, трех: в Иосифе борются идеологии космическая, матриархальная и родовая. Во всяком случае, позднейший сюжет уже должен был отражать протест против верности Адониса и передавать образ временного отрыва в метафоре «чистого дурака». Эта метафора, как мы видели, варьировала мотив целомудрия, и все те боги, которые олицетворяли фаллическое начало плодородия, имели такую фазу, где были дураками типа Маргита. Адонис этой участи не избег и тоже имел культовые прозвища дурака.1 Но Иосиф, разновидность Адониса, предпочел другую метафору, как более мужественный герой, опирающийся и на патриархат: он не ‛обезумел’ от Пентефрии, но ‛отверг’ ее…
Как бы там ни было, мифологический сюжет закономерно кончился тем, что Иосиф снова слился с Адонисом, и что его прошлое стало противоречивым настоящим. И самое последнее его оформление – это «Венера и Адонис» Шекспира, где Венера страстно влюблена и страстно ищет объятий Адониса, но Адонис целомудрен, холоден и непреклонен.
9
Конечно, можно при желании считать, что весь этот экскурс об Иосифе уже более или менее освещен и закончен. Но, при желании, можно считать,
1 Radermacher. Motiv n. Personlichkeit, Rhein Mus., 1908, t. 63, 449.
|
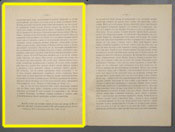 
|
|
что он еще и не начат, потому что методология – тот чеховский генерал, присутствие которого на свадьбе более важно, чем присутствие самого жениха. Итак, дело в следующем. Когда в египетской сказке о двух братьях жена старшего соблазняет младшего, тот отвечает ей в таком духе: как, могу ли я сделать это, если мой брат был мне, как отец, а ты, как мать! – «как мать» Но вот дальше. С самим младшим братом, Батой, разыгрывается тоже нехорошая история: его собственная жена изменяет ему с фараоном. Фараон-ли, действительно, этот фараон, речь не здесь. Но главное вот в чем: жена Баты беременеет от Баты и рождает этого самого Бату. Значит, не «как мать», а просто «мать». Итак, жена старшего брата тщетно соблазняла младшего: он не мог сойтись с ней, она была ему, как мать. Но мать младшего, тоже коварная и лживая, соединилась с младшим, хотя была мать. Какой из двух эпизодов древнее? Конечно, второй; теперь мы видим, что он дает первоначальную картину мифа об Иосифе, потому что начинается изменой и кончается рождением. Но изменой Бате и рождением Баты. Первоначально, значит, Иштар изменяет Таммузу и рождает Таммуза: все в порядке, в мифе так оно и есть. Но дальше: Гильгамеш только разновидность Таммуза.- И в этом нет ничего страшного. А Иосиф? Выходит, что его соблазняет тоже собственная жена, чтоб родить его же. И это-то является для нас необходимым дополнением. Теперь ясно, почему в индусском обряде или в Маргите соблазнительницей являлась своя же жена. Зато обряд с целью «рождения года», для плодородия, получает конкретный смысл: нужно родить бога года, бога плодородия, а Бата, Таммуз, Иосиф и др. – именно такие боги, персонифицирующие производительность. Другими словами: мать-земля не мать вообще, а мать именно того бога, которого в данном мифе принуждает к соединению. Первый эпизод египетской сказки, значительно позднейший, и дает повторение второго; здесь уже Бата отказывает жене, которая стала женой его брата (вот она где, функция фараона!), и для него не мать, а как мать. Теперь возьмем многочисленные версии мифа в античном фольклоре: всюду любовь к пасынку! Мать – но не родная, для смягчения варварского смысла. Точно так же за любовью к деверю лежит в смягченном виде ...любовь к мужу, которому и с которым изменяет его же жена. Мотив измены мужу с мужем – мотив, имеющий большое распространение в Греции и в средневековой новелле. Дело не в этом. А в том, что один и тот же факт мы, якобы, с одинаковой правотой можем объяснять только «исторически» или только «мифологически».
|
 
|
|
И вот об этом-то нужно сказать, и нужно показать, что здесь может лежать искушение для одних детей. Пропись должна гласить: нельзя раскладывать миф, с его генезисом и функциональностью, в последовательный ряд и этап за этапом пропускать его сквозь строй одинаковой для обоих стадиальности. Между генезисом и функцией лежит не причинно-следственный ряд формального «развития», а противоречивое единство. Так, еще в ранне-земледельческий период складывается миф о матери, вызывающей сына на соединение; но при родовом строе, противоположном матриархату, положение женщины настолько изменяется, что она начинает считаться причиной морального зла, и вот создается сюжет о женщине, «почти» матери, которая готова склонить на соединение «даже» родного сына своего мужа. Есть, поэтому, два ложных пути: объяснить миф мифологически, в его генезисе, и презреть стадию оформления, в которой проявляется его историческая функциональность; либо ухватиться за стадию оформления и презреть генезис. В чем же дело? Что нужно прибавить методологически к тому, что уже сказано социологически?
Только одно: между генезисом мифа и его функцией лежит соответствие снятого противоречия. Поистине, нет ничего общего между рабыней семьи и божеством-женщиной, между прошлым сюжета и его настоящим; и все-же и то и другое – органические черты самого мифа в его наличии, которые можно отодрать лишь при помощи скальпеля, уже на анатомическом столе. И разве мало философского смысла в том, что миф (и не только один миф – в этом-то и философия!), что миф именно в своем оформлении оказывается только функцией того, что он же собой представляет? Получить оформление – значит уйти от себя, и в этом смысл всех объективных процессов*.
|
 
|