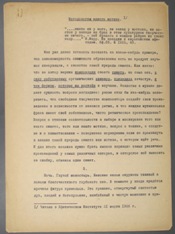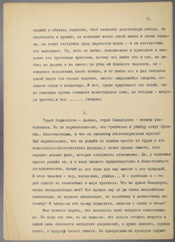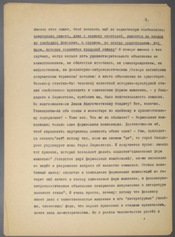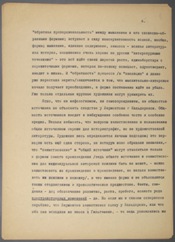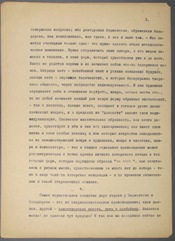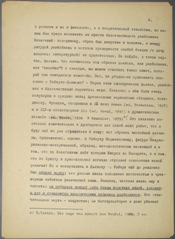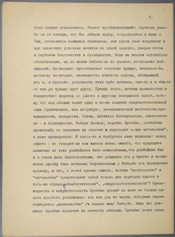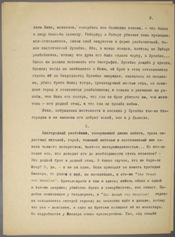Методология одного мотива
Опубл.: Методология одного мотива / О. М. Фрейденберг; [подг. текста, примеч. Н. В. Брагинской] // Труды по знаковым системам. – 1987. – 20. – С. 120–130. – (Ученые записки Тартуского государственного университета; вып. 746). – То же. Электрон. данные. – Режим доступа:
 http://ivgi.rsuh.ru/article.html?id=245227
http://ivgi.rsuh.ru/article.html?id=245227
В примечаниях к тексту указаны страницы публикации.
Под буквенными сносками даны примечания редактора.
|
Методология* одного мотива1
О. М. Фрейденберг
«...никто ни у кого, ни запад у востока, ни восток у запада не брал в этом культурном творчестве ничего, – все бралось в каждом районе из своих недр…»
Н. Марр. Из поездки к европейским яфетидам. Яф. сб. III, 1925, 49.
Мне уже давно хотелось показать на каком-нибудь примере, что закономерность сюжетного образования есть не продукт научной спекуляция, а свойство самой природы сюжета. Или иначе: что не автор вершил композицию своего сюжета, но сама она в силу собственных органических законов приходила зачастую к тем формам, которые мы застаем и изучаем. Аналогия в музыке делает сущность вопроса нагляднее: разве стал бы кто-нибудь оспаривать, что свободное творчество композитора создает свои произведения в зависимости от законов ритма, и что каждая музыкальная фраза имеет свое собственное чисто ритмическое происхождение? Вопрос о степени сознательности в выборе и маскировке того или иного сюжета, того или иного мотива, вопрос о топике, о сходстве и о заимствовании – совершенно неразрешим, если не проникнуть в анализ самой природы сюжета или мотива, о котором идет речь. И для этого анализа нужно брать именно вариации самых различных произведений у самых различных авторов, и авторство все выносить за скобку, обнажая один сюжет. 2
Ночь. Глухой монастырь. Женские кельи окружены тишиной и покоем благочестивого глубокого сна. В темноте у входа крадется мрачная фигура пришельца. Это грешник, отвергнутый святостью дух, злодей и богохульник, влюбленный в чистую * монахиню и при 1 Читано в Яфетическом институте 21 марта 1926 г.
|
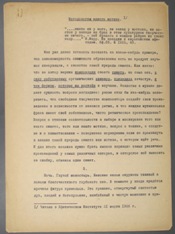 
|
|
шедший в обитель святости, чтоб похитить девственную любовь. Он колеблется и дрожит. Он подводит итоги своей жизни и своим чаяниям, он хочет отступить пред дерзостью плана – и он неотвратимо его выполняет. Та, кого он любит, взволнована и приведена в смятение его греховным чувством, потому что любит его и она, но любить не должна и не смеет: он убил ее близкого человека, он свирепое воплощение злого начала, и от любви его и для спасения своей чести она только недавно, вместо ожидавшейся свадьбы, отвезена отцом в монастырь. И вот, среди сумрачного сна келий одна лампадка тускло освещает монастырское окно, за которым – мятутся чувства и под…(лакуна * ). 3
Герой Лермонтова – дьявол, герой Кальдерона – атаман разбойников. Но не изумительно ли, что грабителя и убийцу зовут Эусебио, Благочестивым, и что он является обоготворителем креста? Еще изумительнее, что он рожден со знаком креста на груди, и его божественно благочестивая природа, с точки зрения сюжета, есть заранее данный факт, который оспаривать невозможно. Да, у подножья креста рожден он и в знак высшего предначертания и божественного заступничества, крест на его теле дан ему вместе с его природой. И этот человек – вор, насильник, убийца... И – прибавлю я – герой одного из величайших в мире трагиков. Что же Кальдерон, когда воспроизводил его? Как пришла ему на ум такая извращенная комбинация, во времена инквизиции, ее пособнику и ревностному католику? И читал ли его пьесу Лермонтов, знал ли о сцене в келье?
Мне хочется верить, что нелепость этих вопросов самоочевидна. Но если это так, то не ясно ли, что нельзя ставить вопросы в одной лишь плоскости авторских разрешений, а нужно вникать, прежде всего, в природу самого сюжета. Не прекрасным ли примером служит |
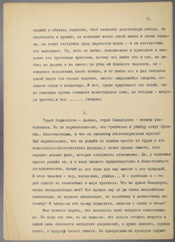 
|
|
именно этот сюжет, чтоб показать еще не подмеченную особенность: композиция сюжета, даже у великих писателей, является не плодом их свободной фантазии, а орудием, не всегда сознательным, тех форм, которые создаются природой сюжета? Я говорю именно о тех случаях, когда нельзя дать удовлетворительного объяснения ни заимствованием, ни общностью источника, ни самозарождением, ни мифологизмом, ни фольклорно-антропологическим (говоря английским современным термином) началом: а иного объяснения не существует. Фольклор ответил бы: человеку известной историко-культурной стадии свойственно приходить к одинаковым формам мышления. – У Кальдерона и Лермонтова, прибавим мы, была конгениальность замысла. Но конгениален ли* Демон благочестивому бандиту? Нет, конечно. Равноценны ли обе сцены в монастыре по идейному и художественному содержанию? – Тоже нет. Что же их сближает? – Формальная композиция; только одна формальная композиция. Достаточно ли ее, чтоб определить внутреннюю ценность обеих сцен? – Увы, приходится сказать «нет»: потому что, если мы скажем «да», то герой Кальдерона узурпирует мощь героя Лермонтова. И получается тупик: именно тот признак, который позволяет делать аналогию «одинаковых форм мышления» (сходство двух формальных композиций), он же нисколько не ведет к разрешению вопроса об аналогии замыслов. Отсюда неизбежный вывод: сходство и совпадение формальных композиций не говорит еще ничего в пользу одинаковых форм мышления, и фольклорно-антропологическое объяснение совершенно неприменимо к литературе «высокого стиля». И очень просто, почему: потому что фольклор имеет дело с тожественностью мышления и его «литературных» (вообще, словесных) форм, что хорошо применимо к стадиям архаическим, почти лишь до-историческим. Но с ростом человечества растет
|
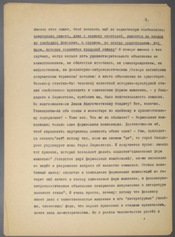 
|
|
«обратная пропорциональность» между мышлением и его словесно образными формами: вступают в силу консервативность всякой вообще формы; мышление, идейное содержание, замысел – всякая литературная история, называемая очень хорошо по-русски «литературными течениями», – это все идет своей дорогой роста, единоборствуя с пережиточными формами, которая по-новому освещает, одухотворяет, вводит в жизнь. И «обратность» процесса (в «эволюцию» я давно уже перестала верить) заключается в том, что мыслительно-авторское начало получает преобладание, а форма постепенно идет на убыль. Уже только отдельные крупные художники могут примерить их.
Ясно, что ни мифологизмом, ни самозарождением, ни общностью источника не объяснить сходства у Лермонтова и Кальдерона. Общность источников вводит в заблуждение особенно часто и особенно вредно. Нельзя забывать, что вопросы заимствования и пользования общим источником хороши для историографии, но не художественной литературы. Художник весь определяется личным подходом; это верно; но есть еще одна сторона, на которую мало обращали внимания, – что «заимствование» и «общий источник» могут относиться только к формам самого произведения (ведь общего источника заимствования для индивидуальной авторской психики быть не может, – можно заимствовать из произведения в произведение, но нельзя заимствовать из психики в психику), и что именно формы и не объясняются таким отодвиганием в хронологическое предшествие. Факты, сведения – да; обозначение развития, роста, пробега, всякого рода пространственных изменений – да. Но если мы и скажем совершенно серьезно, что Лер* монтов заимствовал сцену у Кальдерона, или что оба они исходили из эпоса о Гильгамеше – то ведь успокоились мы
|
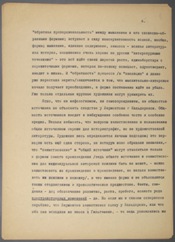 
|
|
совершенно напрасно; ибо разгрузили Лермонтова, обременили Кальдерона, или вавилонянина, или грека. А воз и ныне там. – Мне кажется очевидным только одно, что нужно сделать общее методологическое изменение. Нужно отграничить язык автора, с его миром замысла и техники, и язык форм, который существовал уже и до него. Никто не родится первым и не начинает собою что-то совершенно новое. Впереди него – неизбежный опыт и усилия поколений будущих, позади него – пирамида тысячелетий, в которых беспрерывно творилась общность через посредство индивидуального. И как художник определяет себя в отношении портрета, жанра, nature morte etc., но не собой начинает каждый раз новую форму образных впечатлений, – так и писатель, прежде всего, попадает в готовое русло давно сложенных жанров, и в пределах их «данности» вносит свою индивидуализацию. Словесная мыслительная образность, как нечто родовое, существует в нем и вне его одновременно; она имеет свою жизнь и свои особые законы; и как история искусства складывается из взаимоотношений жанра и художника, жанра и писателя, жанра и композитора, – так и каждое отдельное произведение может рассматриваться с точки зрения личного авторского начала и тех готовых форм, которые порождены образом «an sich» как сочетанием и ритмом мысли, существовавшим за много лет до автора – тоже в виде чьей-то авторской концепции – и со временем окаменевшим в своей стереотипной отливке.
4
Самое изумительное сходство двух героев у Лермонтова и Кальдерона – это их сверхъестественное происхождение; один – дьявол, другой – олицетворение креста, хотя и разбойник. Является мысль: не одна ли тут природа? И так как мы находимся сейчас не
|
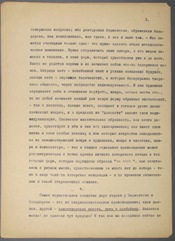 
|
|
в религии и не в филологии, а в теоретической этнологии, то можем без греха вспомнить на кресте благочестивого разбойника Евангелий: по-видимому, образ был допустим и понятен, и между фигурой разбойника и мотивом праведности особой бездны (я хочу сказать: литературной) не существовало. Но пойдем в таком случае дальше. Что понималось под образом дьявола, или разбойника, как* «Эвсебия»a*? К счастью, мы можем отыскать такой сюжет, который нам немедленно помог бы. Вот, не угодно ли припомнить сказание о Роберте-Дьяволе? – Перед нами одновременно дьявол, разбойник и благочестивый служитель веры. Сказания о нем были очень популярны в средние века; древнейшими вариантами обладала, по-видимому, Франция, создавшая в XIII веке Roman* (ed. Тrebutien, 1837b) и в ХIV-м стихотворное Dit (ed. Breul, 1895c) и драматическое Miracle (ed. Frere, 1836d; Fournier, 1879e)11. Это сказание настолько замечательно и драгоценно для целей моих работ, что я буду еще не раз обращаться к нему: вот образец чистейшей легенды, приложенной, однако, к Роберту Норманнскому, фигуре безукоризненно исторической, образец, методологически взывающий к тем, кто по Евангелиям дает историю Иисуса из Назарета, и к тем, кто по Христу и христианской легенде отрицает основателя новой религии! Но я возвращаюсь к Дьяволу; – Роберт еще до рождения был обещан черту, его ранняя жизнь наполнена жестокостью и чрезмерным избытком физической силы. Наконец, честная жизнь ему в тягость; он собирает вокруг себя банду порочных людей удаляется в лес и становится классическим атаманом разбойников. Его отличительная черта – кощунство; он богохульствует и даже убивает
aСм. Эусебио
bСм. Roman de Robert le Diable
cСм. Le dit de Robert le Diable
dСм. Miracle de Robert le Dyable
eСм. Mystère de Robert le Diable
1 Тardel H. Die Sage von Robert dem Teufel, 1900, 7 ss.
|
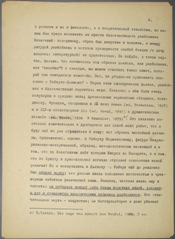 
|
|
семь святых отшельников. Эпилог противоположный: случайно узнает он от матери, что был обещал черту, отправляется к папе в Рим, становится кающимся грешником, все грехи свои искупает и при сказочных условиях женится на одной царевне, умирая потом в глубоком благочестии и праведности. Если мы желаем оставаться объективными, мы не можем сейчас же не сделать нескольких наблюдений. Во-первых, тройственное согласие чуждых, казалось бы, мотивов во-вторых, возможность какой-то основы, обобщающей их; и в-третьих, условность этих трех мотивов, где-то и в чем-то не так уже чуждых друг другу. Прежде всего, мотивы дьявольства и бандитства: переход от одного к другому совершенно прост, потому что под обоими лежит одно и то же понятие сверхъестественной силы (физической как атрибут), нечеловеческой жестокости, кровожадности, коварства. Затем антитеза богохульства, святотатства – и праведности. Роберт-Дьявол, подобно Эусебио, разбойник временный; но покаяние их спасает и переводит в «чин ангельский», в лоно праведников. И здесь-то и требуется наше внимание: конец сюжета – не говорит ли нам именно конец сюжета, что природное знамение на теле разбойника было осмысленным, что разбойник был и в самом деле Благочестивым, что рождение его у креста и посвящение кресту было мотивом, параллельным у Роберта его посвящению дьяволу, и что, с точки зрения сюжета, мотивы «дьявольства» и «ангельства» представляют собою только две вариации одного и того же образа «божественности», «сверхъестественности»? Кровожадность и кощунственность Эусебио делают из него не только одного простого разбойника: это как раз те черты, которыми характеризуется «дьявольство» (и только ими) Роберта. Лишь вот разница: Эусебио посягает на святость обители, Эусебио хочет наси
|
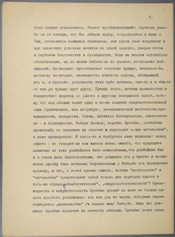 
|
|
лием Юлии, монахини, оскорбить все божеские законы, – что более к лицу было бы дьяволу, Роберту* ; а Роберт убивает семь праведников-отшельников, являя свое кощунство в форме разбойничьей, более свойственной Эусебио. Оба, в конце концов, каются; но Роберт разбойничал, потому что душа его была отдана черту, а Эусебио... Здесь мы должны вспомнить его биографию. Эусебио рожден у креста, брошен; когда он влюбляется в Юлию, ее брат и отец отказываются отдать ее за безродного; Эусебио вынужден, защищаясь на поединке, убить брата Юлии; тогда, преследуемый местью отца, он покидает город и становится разбойником; и только в развязке мы узнаем, что Юлия его сестра, что сам он брат убитого им, что мститель – его родной отец, и что сам он прощен небом.
Итак, побуждения жестокости и насилия у Эусебио так же благородны и не вызваны его доброй волей, как и у Дьявола.
5
Благородный разбойник, совершающий дикие набеги, гроза окрестных жителей, герой, томимый любовью и поставленный вне закона чьим-то коварством, чьей-то несправедливостью... Но кто же гонит его, кто доводит до необходимости стать атаманом? – Это родной брат и родной отец. В таком случае, это не Карл ли Моор? О, да, – и не он один. Если приходит на память трагедия Шиллера, то рядом с ней, по ассоциации, и его же «Die Braut von Messina»a. Братья-враги и там и здесь; любовь обоих к одной и той же девушке; убийство брата и самоубийство как эпилог. Подобно композиции у Кальдерона, в «Die Braut von Messina» героиня оказывается сестрой героев; но аналогия идет и дальше, потому что она – монахиня, и один из братьев похищает ее из монастыря. Но подробности у Шиллера очень красноречивы. Так, над семьей
a См. Шиллер, Мессинская невеста
|
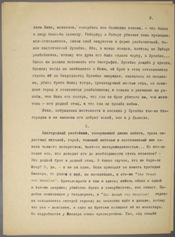 
|
 http://ivgi.rsuh.ru/article.html?id=245227
http://ivgi.rsuh.ru/article.html?id=245227