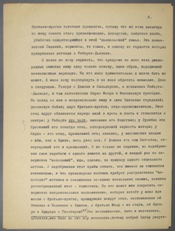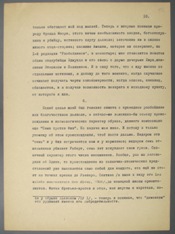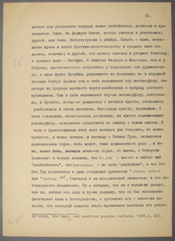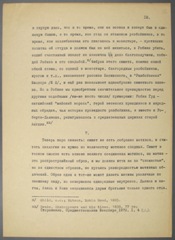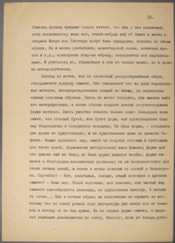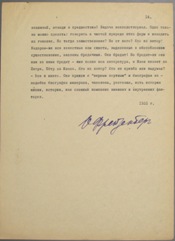Методология одного мотива
Опубл.: Методология одного мотива / О. М. Фрейденберг; [подг. текста, примеч. Н. В. Брагинской] // Труды по знаковым системам. – 1987. – 20. – С. 120–130. – (Ученые записки Тартуского государственного университета; вып. 746). – То же. Электрон. данные. – Режим доступа:
 http://ivgi.rsuh.ru/article.html?id=245227
http://ivgi.rsuh.ru/article.html?id=245227
В примечаниях к тексту указаны страницы публикации.
Под буквенными сносками даны примечания редактора.
|
братьев-врагов тяготеет проклятие, потому что их отец посягнул на жену своего отца; кровосмешение, коварство, свирепая злоба, убийства олицетворяются в этой «дьявольской» семье. Это завоеватели Сицилии, норманны, те самые, к одному из которых прикреплена легенда о Роберте-Дьяволе.
Я вовсе не хочу скрывать, что сразу же во всех этих разнородных сюжетах вижу одну только основу, один образ, породивший всевозможные вариации. Но это мало примечательно и иначе быть не может. Я иное хочу подчеркнуть и на иное обратить внимание. Дело в следующем: говоря о Демоне и Кальдероне, я вспомнила Роберта-Дьявола, а там, естественно, Карла Моора и Мессинскую трагедию. Но вслед за нею я непроизвольно вижу и цикл Эдиповых страданий; фиванскую бойню; двух братьев-врагов, отца-кровосмесителя. Этот отец вдруг облекается передо мной в кровь и плоть и становится в центре: у Роберта – это черт, виновник его бедствий; у Эусе* био – это бросивший его некогда отец, заподозривший в неверности мать; у Карла – это отец, проклявший его; наконец, у Мессинских владык в нем, как в Эдипе, весь узел зол. У Демона, это сам Бог-отец, отвергнувший его и проклявший. Я не только не скрываю, но подчеркиваю свои перебеги с одного сюжета на другой, и каждый раз на совершенно «непохожий», идя, однако, по компасу одного отдельного мотива. Я подчеркиваю этот прием оттого, что именно он считается незаконным, и что правоверная поэтика требует разграничения «непохожих» мотивов и соединения воедино нескольких схожих, называя регистрационный итог – тождеством. Но кто может мне запретить совершенно непроизвольное воспоминание, которое встает у меня при мысли о братьях-врагах, враждующих вокруг отца, воспоминание об Этеокле и Полинике с Эдипом, о братьях Моор с их отцом, об Эдгаре и Эдмунде с Глостером?1 Это воспоминание, хотя и незаконное,
1 Кстати, мне было до сих пор непонятно, почему добрый Эдгар рисуется у обрыва дьяволом (IV, 1), – теперь я понимаю, что «демонизм» – это рудимент именно его добродетельности.
|
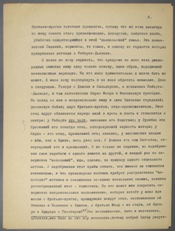 
|
|
только обогащает мой ход мыслей. Теперь я впервые понимаю природу Франца Моора, этого ничем не объяснимого злодея, богоотступника и убийцу, истинного слугу дьявола; заточение им в склепе живого отца-старика; насилие Амалии, которое он совершает, по первой редакции «Разбойников», в монастыре; мне становится понятен облик отцеубийцы Эдмунда и его связь с двумя дочерьми Лира, женскими Этеоклом и Полиником. И в силу того, что я иду именно за отдельными мотивами, я дохожу до того момента, когда случайное начинает получать черты закономерности, когда основа, наконец, обнажается, и я получаю возможность возврата к исходному пункту, от которого я шла.
6
Если б целью моей был генезис сюжета о праведном разбойнике или благочестивом дьяволе, я сейчас же выяснила бы основу происхождения и космологический характер образа, давшего композицию еще «Семи против Фив»a. Но задача моя иная. И потому я только упомяну об этом происхождении, чтоб пойти дальше. Недаром эти «семь» и у Фив встречаются нам, и у норманнов; недаром семь отшельников убивает Роберт, семь лет искупает свои грехи. Солнечный характер этого числа несомненен. Вообще раз мы заговорили об Эдипе, то происхождение из солнечно-хтонических представлений уже выясняется само собой для каждого, кто еще не стоит на точке зрения до Узенера, Сентива (я имею в виду его Les saints successeurs de dieux, 1906), до немецкой школы ориенталистов. Мотив братьев-врагов и отца как жертвы и карателя, по
aСм. Septem contra Thebas
|
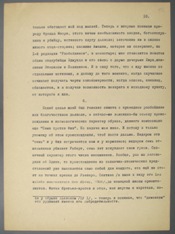 
|
|
могает нам распознать природу наших разбойников, дьяволов и праведников. Один, по формуле Авеля, начало светлое и угнетаемое; другой, как Каин, богоотступник и убийца. Смерть – один*, воплощение мрака и всего противоестественного; в средние века это дьявол, конечно; и другой как начало светлое и угодное божеству, в средние века – Эвсебийa. В сюжетах Шиллера и Шекспира, как и у Софокла, двойственность сохранена; у Кальдерона она рудиментарна, в лице брата Эусебио, умирающего на поединке; но в народной легенде Роберт-Дьявол сам в себе переживает эту метаморфозу, переходя из природы мрачного черта-разбойника в природу светлого праведника. Такую же метаморфозу претерпевает, собственно, и Эусебио, когда он рождается с печатью креста, становится разбойником и снова делается, благодаря кресту, праведным. В этом отношении евангельский разбойник, на кресте переживающий метаморфозу, совершенно аналогичен по сюжету с нашим циклом. И если о происхождении всех этих циклов уже говорить, то можно привести, в конце концов, и легенду о Робине Гуде, английском национальном герое, быть может, тоже норманского рода, и тоже, может быть, имеющем какие-то корни, по имени, с Робертом-Дьяволом: я только напомню, что to rob – значит и сейчас еще «разбойничать», что robersman – по-английски «разбойник», и что Робин Гуд называется в ряде старинных рукописей robber Robert или Robbin1. Считался и он исторической личностью, и его легендарность несомненна. Но я напомню, что он и такой же рыцарь, как он, любили оба одну и ту же девушку, что он был воплощение физической силы и благородства, а противник его – такой же низости, что коварный замысел этого противника заставил его уехать
a См. Эусебио
1 Child F.I. The Engl. and Scottish popular ballads, 1888, V, XXI.
|
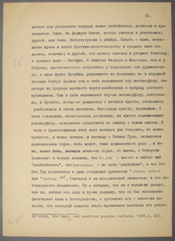 
|
|
в глухую даль, что в то время, как он воевал и заперт был в одинокую башню, в то время, как стал он атаманом разбойников, в то время, как возлюбленная его спасалась в монастыре, – противник похитил ее оттуда и должен был на ней жениться, а Робина убить, если б счастливый эпилог не закончил дела благополучием, победой Робина и его свадьбой1. Фабула этого сюжета, помимо нашей общей схемы, со сценой в монастыре, благородным разбойником, врагом и т. д., напоминает рассказ Косинского в «Разбойниках» Шиллера (III 2), и еще раз показывает однообразие сюжетного напева. Но в Робине мы приобретаем значительное преимущество перед другими подобными (им же несть числа) примерами: Робин Гуд – английский «майский король», герой весенних праздников и народных обрядов, чья история праведного разбойника, а вместе и Роберта-Дьявола, разыгрывалась в средневековых церквах старой Англии2.
7
Теперь пора сказать: сюжет не есть собрание мотивов, и считать аналогии не нужно по количеству мотивов сходных* .
Сюжет в тесном смысле есть основа всякого соединения мотивов, но мотив – это распространенный образ, и мы должны идти не за «схожестью», но за единством образов, не пугаясь разнородности мотивных обозначений. Образ один и тот же может давать мотивы различные по внешнему виду, но совершенно однородные внутренне: Дьявол и Ангел, Авель и Каин оказываются двумя братьями только одного отца.
1 Child, о. с.; Ritson I. Robin Hood, 1885.
2 Drake N. Shakespear and his times, 1838, 77 ss.; Стороженко Н. И. Предшественники Шекспира, Лилли и Марло, 1872, I, 4 слл.
|
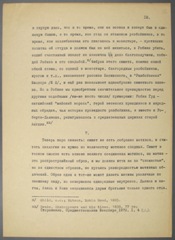 
|
|
Считать мотивы чуждыми только оттого, что вид у них различный, есть погрешность; ведь вот, какой-нибудь миф об Эдипе и мотив о старике Мооре или Глостере могут быть однородны, покоясь на общем образе. Но и мотивы разбойника, монастырской сцены, знамения креста и т. д., принадлежа тому же образу, оказываются все параллельными. И учитывать их, обращаться к ним не только можно, но и должно методологически.
Взгляд на мотив как на словесный распространенный образ обнаруживает природу сюжета. Она складывает его из ряда параллельных мотивов, интерпретированных каждый по-иному, но взращенных одним основным образом. Здесь не место говорить, как именно идет эта интерпретация и какие образы создают всегда соответствующие формы мотивов. Здесь уместно сказать только одно: Кальдерон взял сюжет, как готовый букет, как букет форм, чье происхождение было ему безразлично и совершенно неведомо. Он брал формы – остальное уже давно не существовало, и не существовало даже во времена Софокла. Форма нравилась ему, сюжет он получил готовым и пригодным для своих целей. Лермонтова интересовала идея Демона; формы для его демона еще не было; но была форма демонов вообще, форма сюжетов о благородно-возвышенных дьяволах; он ею воспользовался для своих личных целей, и сцена в келье совпала со сценой у Кальдерона. Случайно? – Нет, неизбежно. Значит, общий источник в древнем сюжете?- Тоже нет. Такой источник как таковой, как чистый вид единого однообразного сказания, не существовал никогда. В начале бе слово... Был в начале образ; но источником он служить не мог, потому что на самой ранней заре литературы уже никто его не понимал и никому он не был нужен. Но он создал формы сюжета, в тысячах вариаций разошедшиеся по свету. Филолог, лови их теперь, уста
|
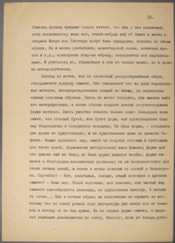 
|
|
навливай, отводи в предшествия. Задача неплодотворная. Одно только можно сделать: говорить о чистой природе этих форм и находить их генезис. Но тогда заимствование? Но от кого? Кто их автор? Недаром же все известные нам сюжеты, выделенные в обособленное существование, названы бродячими. Они бродят! Но бродят ли они или за ними бродят – ими полна вся литература, и Иван кивает на Петра, Петр на Ивана. Кто их автор? Кто их привез или выдумал? – Все и никто. Они пришли с «первым портным», и биография их – подобно биографии минерала, человека, растения, есть* история жизни, история как сложный комплекс внешних и внутренних факторов.
1925 г.
О.Фрейденберг
|
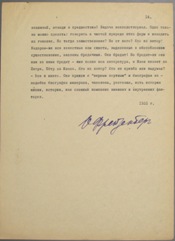 
|
 http://ivgi.rsuh.ru/article.html?id=245227
http://ivgi.rsuh.ru/article.html?id=245227