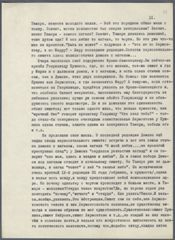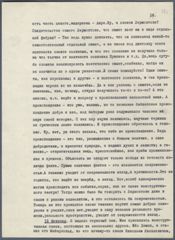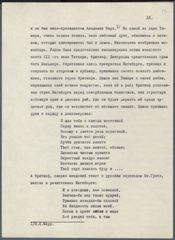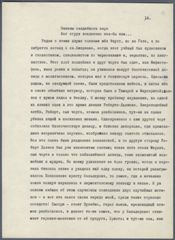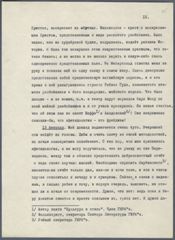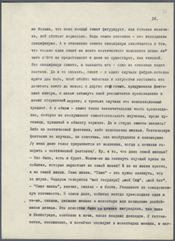|
| Лермонтов | Кальдерон |
| Здесь больше нет твоей святыни, | Я посягаю на обитель, |
| Здесь я владею и люблю! | Топчу монашеский закон. |
| |
| Дух беспокойный, дух порочный, | Но здесь я стала инокиней, |
| Кто звал тебя во тьме полночной? | Супругой сделалась Христа, |
| Твоих поклонников здесь нет, | Ему дала навеки слово, |
| Зло не дышало здесь поныне; | И я теперь его, не та, |
| К моей любви, к моей святыне | Не прежняя. Чего ты хочешь? |
| Не пролагай преступный след. | Иди, и погибай один, |
| Кто звал тебя? | Служи на изумленье миру, |
| Свирепый, убивай мужчин, |
| Насилуй девушек и женщин, |
| Но только от меня не жди |
| Оставь меня, о дух лукавый! | Плодов любви твоей безумной, |
| Молчи, не верю я врагу! | Здесь место свято, уходи. |
| |
| Кто б ни был ты, мой друг случайный,- | |
| Покой навеки погубя, | Твоим желаниям поддавшись, |
| Невольно я с отрадой тайной, | Твоей печалью соблазнившись, |
| Страдалец, слушаю тебя. | К твоим мольбам свой слух склонив, |
| Растрогана твоим рыданьем... и т. д. |
Этот неожиданный параллелизм ставит меня в очень затруднительное положение. Немедленно нужно решить, кто у кого взял, иначе я не смогу сделать доклада. Итак, кто же? – Ответ один: Лермонтов у Кальдерона, потому что он жил двумя веками после него. Но зачем Лермонтов извлек из драмы Кальдерона одну сцену и пересадил ее в свою поэму? Одно из двух, либо он собирал мед со всех цветов понемножку, либо передо мной случайное совпадение. По-настоящему, следует выяснить, откуда этот мотив попал к Кальдерону. Но благодарю покорно. Если я и выясню это, то на заседании мне начнут задавать вопросы: один, дескать, мотив вы нашли, |
 
|
|
а в «Демоне» их не меньше дюжины, как же насчет остальных? Если же прослеживать все мотивы по всей мировой литературе, то сил моих, при нынешнем питании, не хватит. Несомненно, что каждый серьезный ученый поступил бы на моем месте так: раз сюжет «Демона» не совпадает всеми своими мотивами с сюжетом «Поклонения кресту», то следует пренебречь случайным сходством двух эпизодов. Тем более, что и во времена Кальдерона, и во времена Лермонтова любовные сцены в монастыре происходили в самой жизни. Да, я выбираю тоже этот последний, наиболее солидный, путь. Пренебрегу. Скажу, что совпадение случайное, основанное на общепсихологической и вполне жизненной ситуации, и пройду мимо1. – Чувствую, что мой доклад по социологической поэтике2 будет иметь успех!
11 февраля. Как приятно чувство уверенности! Хорошо сознавать, что не отходишь от современности, и в этом отношении не заслужишь упрека. «Поклонение кресту» оставила совсем. Зато сосредоточилась на одном Лермонтове. Узнала, что в первоначальных редакциях «Демона» Тамары не было вовсе, а была монахиня, возлюбленная ангела, к которому Демон и ревновал3. В 1829 г. Лермонтов пишет: «Демон узнает, что ангел любит одну смертную. Демон узнает и обольщает ее, так что она покидает ангела, но скоро умирает и делается духом ада». Здесь, в 1-й редакции, еще нет ни любви Демона, ни его философской мятежности. В этом же 1829 г. Лермонтов так видоизменяет сюжет: «Демон влюбляется в смертную [монахиню] и она его наконец любит; но демон видит ее ангела-хранителя, и от зависти и ненависти решается погубить ее. Она умирает. Душа ее улетает в ад»... и т.д. Демон торжествует над ангелом. Еще в IV-й редакции, 35 года, монахиня и ангел взаимно счастливы любовью; только в последней V редакции 41 года впервые появляется
1 Названный «солидным» путь – это путь «психологической» («этнографической») школы, которая возражая теории миграции сюжетов, находила объяснения общемировому распространению сходных мотивов в общности психологической реакции на сходные условия (теория бытового самозарождения); при этом молчаливо подразумевалась внеисторическая психология (психология, «понятная» самому исследователю), перенесенная в исторически отличные обстоятельства. Уже А. Н. Веселовский критиковал эту школу за невозможность объяснить предлагаемым способом повторяемость комбинаций «самозарождающихся» мотивов. (См. например, Собрание сочинений Александра Николаевича Веселовского. Т. 2. Вып. 1. Спб., 1913. С. 29–33).
2 «Социологическая поэтика» – название коллективной темы, по которой работали сотрудники ИРК'а.
3 В текстологии «Демона» был сделан ряд открытий, после которых и хронология, и число редакций, которые имеет ниже в виду Фрейденберг (следуя, скорее всего, очерку Висковатова в кн.: Лермонтов М. Ю. Сочинения / под ред. П. А. Висковатова. Т. 3. М., 1891), представляются существенно иными, что однако не затрагивает последовательности видоизменений интересующих Фрейденберг мотивов. В настоящее время мотив любви монахини к ангелу отнесен к III и IV редакциям (обе 1831 года); Тамара и Кавказ появляются в VI редакции, но это редакция не последняя и датируется она 1837–1838 годами («Ереванский список» и «Список Лопухиной»); сущестование редакции 1841 г., «восьмой», признается не всеми, так как речь идет о варианте, представляющем собой беловой автограф седьмой («Придворной») редакции с внесенными в него поправками. Редакции 1835 г. не существовало.
|
 
|
|
Тамара, невеста молодого князя. – Все это порядком сбило меня с толку. Значит, мотив монашества был сперва центральным? Значит, жених Тамары – замена ангела? Значит, Тамара делалась демоншей, тоже духом ада? И она любит то ангела, то черта. Но это уже что-то мне не нравится. «Быть не может» – подумала я – «это не по Лермонтову, а по Марру». – Беру последнюю редакцию. Остатки первоначального сюжета здесь налицо: стычка демона с ангелом...
Вчера высказала свое недоумение Франк-Каменецкому. Он сейчас же привел «Гавриилиаду» Пушкина, где, по его мнению, тот же сюжет и где у Марии и с дьяволом роман, и с ангелом, и есть сцена стычки совсем, как в «Демоне», этих двух соперников1. Но боюсь: где кончается Пушкин или Лермонтов, и где начинается Марр? К тому же, если остановиться на «Гавриилиаде», придется указать на Франк-Каменецкого и, что особенно бывает неприятно, высказывать ему благодарность за любезное указание; лучше уж совсем обойти «Гавриилиаду» и не обнаруживать своего недосмотра. Да и не доказана эта одинаковость обоих сюжетов; вот только одного жаль, что нельзя привести, как «мрачный бес» говорит архангелу Гавриилу «Кто звал тебя?» – тогда стало бы совершенно очевидным заимствованье Лермонтова у Пушкина сцены стычки, защиты одним из соперников Тамары, победы его и т.д.
Но продолжаю свою мысль. В последней редакции «Демона» еще видны следы первоначального сюжета: встреча и вот эта самая стычка демона с ангелом, слова ангела «К моей любви .... не пролагай преступный след»; у Демона «зарделся ревностию взгляд» и он говорит «она моя, здесь я владею и люблю». Да и самая победа Демона над ангелом отводит к начальному сюжету. Но Тамара уже не дьяволица, и ангел «тонет» с ней «в сияньи неба». За исключением очень краткой IV-й редакции 35 года2 (обрывка, в сущности), сцена в келье есть всюду, и всюду представляет собой композиционное ядро. Но почему адюльтер с чертом происходит в божьем месте, и Тамара – монахиня? Откуда такое кощунство? Да, но хорошо сорок раз повторять «почему», «отчего» и «откуда». Как узнать? Никак. И нельзя, вообще, узнавать. Это абстракция. Сюжет сам по себе, вне Лермонтовского текста и вне Лермонтовского сознания, не существовал никогда и никоим образом не мог существовать. Существовали: сюжет Пушкина, сюжет Байрона, сюжет Лермонтова и т.д., но каждый из них вплетен в сознание поэта, и нельзя его искусственно вытаскивать из всего поэтического контекста, потому что, подобно ситцу, каждая нитка
1 Здесь Фрейденберг ведет читателя по «ложному следу». Дело в том, что работа, в которой рассматриваются архаичные источники «Гавриилиады», была написана С. Я. Лурье («Гавриилиада» Пушкина и апокрифические евангелия (К вопросу об источниках «Гавриилиады») // Пушкин. в мировой литературе. Л., 1926. С. 1–10). В этой статье Лурье сопоставляет мотивы поэмы с мотивами, обнаруженными им не только в раннехристианских, церковных и апокрифических памятниках, но и в древнеегипетских источниках. Так же как исследователи Лермонтова прислушиваются прежде всего к словам о «рассказе таинственном», так и Лурье обращает внимание на «армянское преданье», глухо упомянутое самим Пушкиным («Беседу их нам церковь утаила, Евангелист немного оплошал... Но говорит армянское преданье...»). И единоборство дьявола с Гавриилом и «роман Марии с дьяволом» Лурье считает принадлежностью неведомого источника, содержащего в целости все то, что исследователям приходится добывать по крохам из различных и разнохарактерных источников. Поскольку считается очевидным, что Пушкин такой научной работой заниматься не мог, остается только одно предположение: Пушкин распологал доставшимся ему и никому из исследователей источником, чрезвычайно древним и чрезвычайно близким к тому «архетипу», списки с которого рассеяны по мировой религиозной литературе. Мы видим, что при постановке совершенно аналогичной проблемы – архаичный сюжет в новой авторской литературе – Лурье решает ее сугубо традиционным способом – постулирует существование утраченного источника (ср. выше наше примечание 4). Точно так поступает применительно к «Гавриилиаде» и М. П. Алексеев (Мелкие заметки к «Гавриилиаде» / Пушкин. Статьи и материалы. Одесса, 1925. С. 28–29). Может быть поэтому Фрейденберг называет не Лурье (с ее точки зрения не сумевшего понять собственное открытие), а Франк-Каменецкого, владевшего как гебраист и египтолог материалом исследования Лурье и смотревшего на происхождение поэтических образов с точки зрения истории сознания, а не серии передач «исходного» (всегда почему-то самого «полного») текста. По-видимому, это не единственная ложная отсылка. Ниже Фрейденберг «боится» обвинений яфетидологии во фрейдизме со стороны Иоффе и Азадовского, которые как будто не выступали в печати с критикой того или другого. Между тем, в ИРКе и в том же кабинете методологии литературы работал В. Н. Волошинов, считавшийся автором книги «Фрейдизм»(1927). Бахтина Фрейденберг не знала, но она слышала, что книги Волошинова написаны не им, а человеком по имени Блохин («Волошинов <...> автор лингвистической книги, написанной ему Блохиным»), и записала в конце 40-х как об этом, так и о предложении Волошинова к ней самой о таком же криптоавторстве (Воспоминания, Тетрадь 7). Может быть и здесь она сознательно «путает», кто среди ее слушателей и коллег специалист по критике фрейдизма?
2 В настоящее время IV редакция, представляющая собой небольшую пробу в ином стихотворном размере, датируется 1831 годом.
|
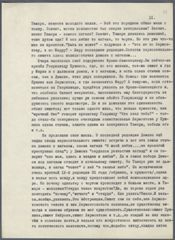 
|
|
есть часть целого, выдернешь – дыра. Ну, а записи Лермонтова? Свидетельства самого Лермонтова, что сюжет взят им в виде отдельной фабулы?1 – Так ведь нужно доказать, что он записывал какой-то самостоятельный отдельный сюжет, а не писал под диктовку всего контекста своего сознания, и что это сознание не получило только что толчка от контекста сознания Пушкина и т. д. Да, вещь сугубо сложная анализировать поэтический сюжет, особенно, когда он не значится ни в одном указателе. И скажи пожалуйста! Одни сюжеты, как аэропланы; а другие – в контексте сознания, и без трепанации черепа их не извлечешь. Да и как узнаешь о сюжете, если не вникнешь, как, почему, откуда получилось то-то и то-то? А это опасно, потому что ведет к вопросу о происхождении непонятной вещи. А происхождение – это уже, шалишь, не то невинное библейское происхождение добра и зла, над которым рано задумывался человек на заре своей истории. С тех пор наука появилась, научные термины на греческом языке появились. И происхождение обратилось в генезис. Ну, нет, уж этого нельзя, это тебе не происхождение. Ведь происхождение – это так, размышление о божьем величии, о силе добродетели, о красотах природы, о падших духах и зависти; а генезис,- отвратительная вещь, преопаснейшая, как прием проникновения в прошлое. Объяснять же следует только исходя из готового наличия факта. Сумма наличных фактов – это называется современностью. А генезис уводит от современности назад, к причинности2. Это не годится, это ведет не вперед, а назад. Вот, если б одновременно могли происходить все события, зараз, как на сцене конструктивного театра! Тогда можно было бы говорить о Лермонтове даже в связи с ранним палеолитом, и это оставалось бы современностью. Теперь же это проклятое слово генезис портит самые добрые намерения и уводит, слов нет, уводит в силу законов реального времени, реального пространства, уводит от современности назад.
12 февраля. Я видела странный сон. Мне приснилась конструктивная сцена, состоящая из нескольких ярусов. Шел «Демон», и ставил его Мейерхольд3, но его почему-то звали Николаем Яковлевичем,
1 Во втором очерке «Демона» Лермонтов называет своим источником монастырскую легенду «рассказ таинственный», который перевел на свой язык «какой-то странник» (Лермонтов М. Ю. Сочинения / под ред. П. А. Висковатова. Т. 3. С. 60–61).
2 Это аллюзия на «формалистов»: усматривание генезиса литературных явлений во внелитературных фактах, поиски внелитературных «причин» литературы встречали их неизменный протест.
3 Конструктивная сцена «Демона» навеяна впечатлениями от нашумевшей постановки «Ревизора», осуществленной Мейерхольдом в декабре 1926 г. Эффект от этого спектакля был необыкновенным, он вызвал бурную полемику, огромную прессу, существует три книги, посвященные дискуссии о Мейерхольдовском «Ревизоре» (см.: Гоголь и Мейерхольд. М., 1927; «Ревизор» в театре имени Вс. Мейерхольда. Л., 1927; Д. Тальников. Новая ревизия «Ревизора» М., 1927; подробнее о славе спектакля см. К. Рудницкий. Режиссер Мейерхольд. М., 1969. С. 377 сл.). Так что и по прошествии четырех лет, к февралю 1931 г., необыкновенный спектакль оставался на слуху. Об устройстве сцены «Ревизора» Рудницкий писал: «Первый план сцены был наглухо отделен от ее глубины сплошной дугообразной линией из 11 дверей, отполированных под красное дерево. На просцениуме было еще четыре двери, по две справа и слева. Все эти 15 дверей ограждали полукруг сцены. Сплошная стена красного дерева сверху соединялась с порталом сцены завесой болотного мутно-зеленого цвета. Но все это замкнутое пространство полностью использовалось только в четырех эпизодах спектакля. В основном же действие разыгрывалось на маленькой выдвижной площадке (размером приблизительно 3х4 метра), которая выезжала на середину сцены. Три центральные двери для того раскрывались как ворота. Таких выдвижных площадок было у Мейдерхольда две: пока на одной играли, другую за сценой снаряжали и готовили «к выезду». На фурках и разыгрывались почти все эпизоды «Ревизора». (Рудницкий К. Ук. соч., С. 353). Вместе с тем в реальной практике Мейерхольд не дошел еще до симультантного спектакля, в котором на сцене одновременно шли бы разные действия. К такому спектаклю, который приснился Фрейденберг, к почти такому, он стремился «теоретически», добиваясь особого динамизма и связывая его с конструктивистской сценой и машинерией, сломом сценической коробки, площадками, подвижными по вертикали и горизонтали, быстрой сменой эпизодов и приемами, характерными для кино: «...зрителя увлекает киноэкран, где есть такая свобода – перебрасывать действие из одной страны в другую, мгновенно менять ночь на день, показывать чудеса в области актерской транформации, щеголять акробатическими трюками ...» (Мейерхольд В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. Ч. 2: 1917–1939. М., 1968. С. 194).
|
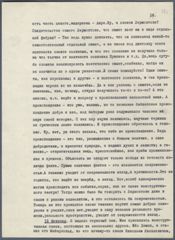 
|
|
и он был вице-президентом Академии Наук*. На одной из сцен Тамара, очень полная певица, пела любовный дуэт, обнявшись с ангелом, который одновременно был и демон. Мизансцена изображала монастырь. Рядом была представлена инсценировка поэмы шведского поэта XIX-го века Тегнера, «Фритиоф». Декорация представляла храм бога Бальдера. Упрятанная здесь прекрасная Ингеборга, трепеща и озираясь по сторонам в публику, принимала своего ночного любовника, отважного героя Фритиофа. Демон пел Тамаре о своей любви, оправдывал свое ночное кощунство, звал ее в рай; Фритиоф успокаивал страх Ингеборги перед оскорбляемым божеством, пел страстную любовную арию и рисовал рай, где он будет держать ее среди чудесных рощ, где он воздвигнет ей неземное жилище. Демон принимал руки к сердцу и декламировал:
И для тебя с звезды восточной
Сорву венец я золотой,
Возьму с цветов росы полночной,
Его усыплю той росой;
Лучем румяного заката
Твой стан, как лентой, обовью;
Дыханьем чистым аромата
Окрестный воздух напою!
Всечасно дивною игрою
Твой слух лелеять буду я...
А Фритиоф, сверив шведский текст с русским переводом Як.Грота, шептал в речитативах Ингеборге1:
И я звездами, как повязкой,
Венчал бы жар твоих кудрей;
Румянец наводил бы пляской
На бледность лилии моей.
Потом в приют любви и мира
Я б уводил тебя, и там
* Н. Я. Марр
1 См. Фритиоф. Скандинавский богатырь. Поэма Тегнера в русском переводе Я. Грота. Гельсингфорс, 1841. С. 57 = Фритиоф. Скандинавский витязь. Поэма Тегнера. С шведского перевел Яков Грот. Воронеж, 1874. С. 75.
|
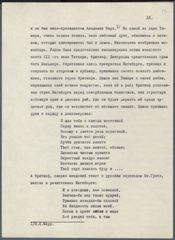 
|
|
Напевы свадебного пира
Бог струн вседневно пел бы нам...
Рядом с этими двумя сценами шел «Фауст», но не Гете, а по либретто легенд о св.Киприане, когда этот ученый был кудесником и схоластиком, специалистом по чернокнижию и, вероятно, по лингвистике. Этот злой волшебник и друг черта был одет, как Мефистофель, имел рожки и копытца; он увивался вокруг благочестивой девицы с молитвенником, которая шла в готическую церковь. Здесь же рядом, на следующей сцене, были представлены небеса, и ангел нес в своих объятиях актрису, которая была и Тамарой и Маргаритой; дьявол с шумом падал в бездну. К моему крайнему изумлению, на одной из нижних сцен в это время давали «Роберта-Дьявола»1. Звероподобный актер, Роберт, сын черта, атаман разбойников, тут же на сцене убивал людей и насиловал женщин. Одновременно с ним другой черт соблазнял благочестивую девицу, и боковая декорация, где происходила неприличная картина, изображала пещеру святого отшельника2. Вся эта сцена была разделена занавеской, и по другую сторону Роберт Дьявол был уже знаменитым святым3; возле него стоял Мерлин, сын черта и только что соблазненной девицы, тоже знаменитый волшебник и мудрец. Но моему удивлению не было границ, когда я перевела бинокль левее и увидела еще одну сцену, на которой разыгрывалось «Поклонение кресту» Кальдерона, то самое, где я нечаянно нашла полную параллель к лермонтовскому эпизоду в келье. Я уж совсем забыла об этом случайном совпадении двух случайных мотивов – и вот эта пьеса снова передо мной, среди таких странных соседств! Смотрю – стоит Эусебио, герой пьесы, кровожадный атаман разбойников, и делает то же самое, что у Кальдерона: отнимает героиню-монахиню от ее супруга, Христа; и тут же сам, как
1 «Роберт-Дьявол» – пьеса-миракль (Miracle de Nostre Dame de Robert le Diable), датируемая XIV в.
2 Сцена из легенды о Мерлине, родившемся от союза инкуба с набожной двицей Кандидой, пришедшей к отшельнику в пещеру и забывшей, ложась спать, перекреститься (См. Шепелевич Л. Е. Очерки из истории средневековой литературы. Вып. 1. Харьков, 1890. С. 15; Дашкевич Н. П. Указ. соч. С. 209).
3 Фрейденберг опиралась в данной работе, главным образом, на исследование Ив. Жданова, значительная часть которого посвящена анализу саги о Роберте Дьяволе и его обращении (Василий Буслаевич и Волх Всеславьевич // ЖМНП. 1893. IX-X. C. 187–240; XII. С.199 – 258; 1894. II. C. 372–412; III С. 88–134) и Tardel H. Die Sage von Robert dem Teufel in neueren deutschen Dichtungen und in Meyerbeer’s Oper. 1900.
|
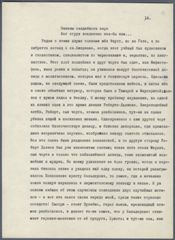 
|
|
Христос, воскресает из мертвых.1 Мизансцена – крест с воскресающим Христом, представленным в виде распятого разбойника. Было видно, как из суфлерской будки, надрываясь, подает реплики Маторин2. Я была так возмущена этим кощунственным зрелищем, что хотела бежать; я не могла и не желала верить в какую-либо связь одновременно представляемых пьес. Но Мейерхольд cхватил меня за руку и показал еще на одну сцену в самом низу. Здесь декорация представляла собой средневековую английскую церковь, и в это время в ней разыгрывались страсти Робина Гуда, знаменитого атамана разбойников и бога плодородия, майского короля3. Что было дальше – я не помню, потому что в театр вдруг ворвался Карл Моор со всей шайкой разбойников и я от ужаса проснулась. Но какое счастье, что об этом сне не знают Иоффе* и Азадовский**! Они непременно сказали бы, что яфетидология – это фрейдизм!
13 февраля. Мой доклад подвигается очень туго. Вчерашний сон нейдет из головы. Днем я очень слежу за своей методологией, но ночью самокритика ослабевает. С тех пор, как мне приснилась яфетидология, я не могу поручиться, что не увижу во сне Переверзева, между тем я обязана представлять добросовестный отчет о ходе своих научных мыслей. Необходимо спросить Якубинского***, касается ли отчет только дня, или же и ночи тоже, и как в таком случае относиться к вечеру и к сумеркам. Сейчас, в связи с виденным, я сильно робею и хочу, в первую очередь, выяснить, не отошла ли я ночью от современности. Думаю, что нет: ведь пока я беру десяток сюжетов и просто описываю их, греха нет. Я думаю да
* Автор книги «Культура и стиль». Член ГИРК'а.
** Фольклорист, секретарь Сектора Литературы ГИРК'а..
*** Ученый секретарь ГИРК'а.
1 В пьесе Кальдерона мертвый Эусебио при приближении отшельника к его могиле воскресает на короткое время, чтобы исповедаться и принять отпущение грехов.
2 Маторин Николай Михайлович (1898–1936). Этнограф, историк религии, крупный партиец, близкий Зиновьеву (в 1922–1925 гг. секретарь Зиновьева по Петросовету и Исполкома Коминтерна). Карьера Маторина завершается в 1934 г.: сначала он отстраняется от руководящих постов, затем после ареста 3 января 1935 получает пять лет лагерей, а в 1936 г. его включают в число организаторов убийства Кирова. 11 октября 1936 г. расстрелян. См.: Решетов А. М. Репрессированная этнография: люди и судьбы // Кунсткамера. Этнографические тетради. Вып. 4. СПб., 1994. С. 213–216. В 1931 г. Маторин находится в апогее своей карьеры: 12 октября 1930 Общим Собранием АН он, по сути самоучка (окончил только 1 курс Петроградского университета), избирается на пост директора Музея антропологии и этнографии, в 1931–1933 занимает пост ответственного редактора журнала «Советская этнография». Если учесть, что режиссером спектакля у Фрейденберг поставлен Марр-Мейерхольд, можно догадываться, почему Маторину, который с 1929 г. был также руководителем разряда этнографии в Марровском ГАИМКе, а с 1930 – заместителем Н. Я. Марра как директора Института по изучению народов СССР АН СССР. отведена роль «суфлера» – партийного комиссара при «спеце».
3 См. о разыгрывании истории Робин Гуда в церкви: Drake N. Shakespeare and his times. Paris, 1838. P.77 ff.; Стороженко Н. И. Предшественники Шекспира, Лилли и Марло. М., 1872. С. I, 4 слл.
|
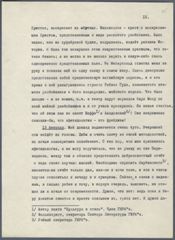 
|
|
же больше, что пока каждый сюжет фигурирует, как готовая величина, все обстоит нормально. Ведь самое основное – это нахождение спецификума. А в отношении сюжета спецификум заключается в том, что только один сюжет из всего поэтического комплекса ровно ничего собой не представляет и даже не существует, как таковой. Это спецификум сюжета, и выявлять его – одна из основных задач поэтики. Да и то сказать, сюжет – в одних случаях фабула, которая нужна для того, чтоб обойти читателя и хитростью заставить его дочитать книгу до конца; в других это схема, придуманная фантазией автора, с целью затянуть свое рассыпчатое произведение в некий стержневой корсет; в третьих случаях это композиционный предлог. А в общем – сюжет такая незначительная часть произведения, которая не заслуживает самостоятельного изучения, вроде пуговицы, пришитой к обшлагу кармана. Да и откуда сюжеты взялись? Либо из поэтической фантазии, либо подсказаны жизнью. Поэтическую фантазию не изучишь, не охватишь, она необузданна и неизмерима (у меня даже голос прерывается от волнения, когда я начинаю говорить о поэтической фантазии). Ну, а то, что дано самой жизнью? – Оно было, есть и будет. Можем ли мы накинуть научный аркан на события, которые вырастают из самой жизни? И не из жизни просто, а из самой жизни. Сама жизнь. «Сама» – это нужно вникнуть, что за штука. Недаром говорится «мой государь», «мой Сид», «мой бог». – «Сама жизнь», значит, сказал – и баста. Указывает на самодовлеющую значимость1. В самом деле, события всегда происходили одни и те же, скажем, насилие женщин в монастыре или похищение разбойником девицы. Это ясно; так было во времена патриархов, так ныне в Ленинграде, особенно к ночи, после поздних докладов. У готтентотов, несомненно, и посейчас насилуют в монастырях женщин, и анг
1 В Воспоминаниях Фрейденберг содержится любопытый комментарий к использованному с такой эмфазой выражению “сама жизнь”:”Меня манили всякие шаблоны. Мне прекрасно был понятен смысл слов о Бентаме, сказанных Д. С. Миллем, что тот был «the great questioneer of things established». Я любила разбивать шаблоны и смотреть в их механизмы, как мальчики, в руки которых попадают часы, замки, заводные игрушки. Почуяв шаблон, я уже не могла оторваться, пока на столе не лежали его вскрытые внутренности. И давно меня интриговал быт, поступки, взгляды людей, все институции. Я чувствовала в них огромный шаблон, но, прежде всего – условности, и вопрос «почему», «откуда» сейчас же вставал передо мной. Революция многое мне уяснила. С восторгом я встречала все исторически новое, начиная с бесклассовости и кончая восхищавшей меня «скользящей неделей», впервые разбившей календарь. Прокрида [так Фрейденберг называет работу вышедшую под заглавием “Поэтика сюжета и жанра” – Н.Б.] показала мне быт, как параллельную линию к искусству, науке, материальной культуре. Тем самым все теории о реализме, идущем из «самой жизни», навсегда стали мне смешны. «Сама жизнь», высмеянная мной еще в моем сатирическом докладе «О бродячих сюжетах», спокойно улеглась в моей книге таким же материалом, как слово и вещь. До меня никто этого не делал. Бытовые представления (наши квартиры, наша еда, одежды, наши нормы поведения) заняли бы у меня большее место, если б я не была стеснена со всех сторон издательством и формально, и со стороны содержания книги. Впрочем, на лекциях я широко пользуюсь,чтоб показывать студентам условность и устарелость нашего сознания.”. Для Фрейденберг революция релятивизировала шаблон “самой жизни” между тем, как установленный революцией порядок вещей в свою очередь заявил претензии на тот же титул. “Сама жизнь” – это простые люди, простой народ, их простые нужды.. Сама жизнь начинает стабильно противопоставляется культуре, земещая в этой оппозиции природу. В отечественных исторических исследованиях (хотя конечно, не только в них) сама жизнь, понятая прежде всего как материальное производство и бытовая повседневность, выступает как единственное подлинно творческое начало: она все творит из себя, подобно материнскому божеству, а за ней тащится в обозе культура со свойственными ей традиционными стандартами. Косную и неповоротливую Культуру божественная спонтанная Жизнь сталкивает со своими все новыми и новыми порождениями и та просто вынуждена на них реагировать, “отражать”. Вот слова из письма одного из яфетидологов, Л.Башинджагяна Марру, где фигурирует эта же “сама жизнь”: “Сама жизнь гонит к нам «спецов» (по мнению некоторых, они идут к нам «из тактических соображений», но ведь это же все равно, раз они работают на нашу мельницу), которые несомненно в состоянии оказать реальную помощь новому учению” (31 мая 1929; СПбФАРАН. Ф 800 оп.3.і, 46, Л.4.). Самой Жизни здесь противостоят “спецы”, представители старой науки и интеллигенции. Иностранцы хорошо чувствуют семантику “жизни” и в современной речи. Они замечают, что у русских с «жизнью» связано все гадкое, ужасное. Когда говорят «знать жизнь», имеют в виду знакомство с ее тяготами, несправедливостью, жестокостью, коварством и пакостями людей. «Быть ближе к жизни» это значит не предъявлять к ней слишком больших требований, соглашаться и смиряться с порядком вещей и т.п. Какая связь между «Самой Жизнью» как фигурантом наших научных трудов и той неприятной и требовательной «самой жизнью» современного обихода? Первая – это образ власти молодой, революционной, он законсервирован, сохранен в нашей науке. Вторая «жизнь» – из обиходного языка, более подвижного, и это уже образ власти, с которой мы имели дело последние десятилетия – тягостная неизбежность. Общее у той и другой “жизни”, конечно, принудительность.
|
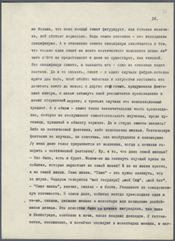 
|