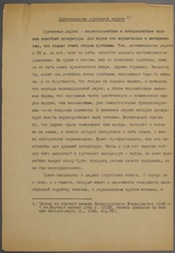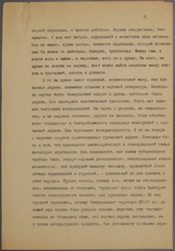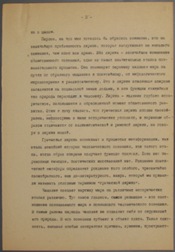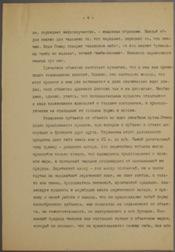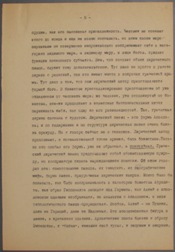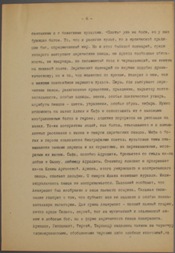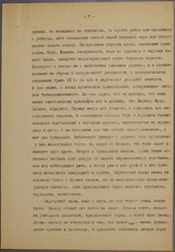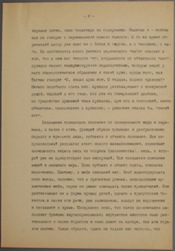Происхождение греческой лирики
Опубл.:
Происхождение греческой лирики / О. Фрейденберг; [пред. Е. Мелетинского и Н. Брагинской] // Вопросы литературы. – 1973. – № 11. – С. 101–123.
|
Происхождение греческой лирики1
Греческая лирика — изумительнейшее и интереснейшее явление всеобщей литературы. Для науки она изумительна и интересна тем, что ставит очень острые проблемы. Так, возникновение лирики в VII веке до н.э. само по себе способно вызвать необыкновенное удивление. На грани с эпосом, еще до появления трагедии, самого по себе очень архаического жанра, лирика поражает. Казалось бы, если б она возникла после трагедии, недоуменья было бы меньше. А то получается, что сперва не хоровая мелика, а монодия; что сначала индивидуальный лирик, а потом коллективные песенные формы; что составные части трагического и комического жанров моложе, чем независимые, уже самостоятельно функционирующие те же жанровые элементы. В феномене лирики история литературы как бы переворачивает свое течение. Изумительно также то, что лирика сразу показывает нам автора, которого в эпосе мы не видим, и какого автора! — говорящего о себе самом, о своих собственных переживаниях. Нужно прочувствовать, как это необычайно для древней литературы. Когда и где это явление найдет себе аналогию? В греческой литературе — нигде. Во всех дальнейших жанрах автор будет говорить устами своего персонажа, но не сам непосредственно.
Также ошеломляет в лирике отсутствие сюжета. Я говорю не о теме, а о сюжете, который имеет в античности совершенно своеобразный характер системы, с определенным кругом мотивов, с
1 Читано на научной сессии Ленинградского университета 1946 г. (см. Научная сессия ЛГУ 1946 г. ЛГОЛУ, тезисы докладов по секции филол. наук. Л., 1946, с. 21)- [Прим. О. М. Фрейденберг].
|
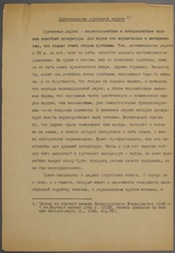 
|
|
серией персонажа 1, с местом действия. Лирика анарративна, бессюжетна. У нее нет фабулы, выражаемой в известном ходе мотивов. Она не имеет, кроме автора, никакого персонажа, который производил бы какие-то действия, говорил, чувствовал. Между тем в эпосе есть и сюжет, и персонаж, есть он в драме. Ни эпос, ни драма не похожи на лирику, хотя можно найти аналогии между эпосом и трагедией, эпосом и романом.
В то же время такой странный, изумительный жанр, как греческая лирика, наименее освещен в научной литературе. Насколько научно богат гомеровский вопрос и драма, настолько бедна лирика. Это падчерица классической филологии. Здесь нет дыхания настоящих исследований. Ни наука о религии, ни семантология, в ее широком значении, лирики не касались. Этим объясняется «гладкость» и беспроблемность отдельных монографий о греческой лирике. Она чудовищно модернизируется. Я уже не говорю о ходячих теориях происхождения греческой лирики. Основная беда в том, что признается внеисторической и универсальной самая категория лиричности. Она понимается как некое субъективное чувство (или, говоря словами Веселовского, эмоциональная взволнованность), как присущий каждому человеку врожденный голос личных переживаний и страстей, — одинаковый во все времена у всех народов. Трудно понять, почему это, ничем не обусловленное, независимое от сознания, «чувство» могло стать фактором такого своеобразного явления, как греческая лирика. Но еще трудней осмыслить, почему «оживленная» торговля VII—VI веков до н. э. должна была рождать поэзию. Впрочем, эти «почему» никогда не ставились теми, кто изучал лирику антикварно, не в плане литературного процесса, без постановки проблемы лири
1 Фрейденберг систематически использовала термин «персонаж» как указание не на одно лицо («персона»), а на их ряд или множество.
|
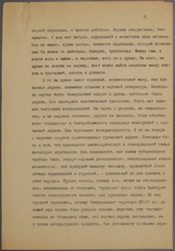 
|
|
ки в целом.
Первое, на что мне хотелось бы обратить внимание, это на величайшую проблемность лирики, которая заслуживает не меньшего внимания, чем эпос или драма. Ибо лирика — величайшее изменение общественного сознания, один из самых значительных этапов познавательного процесса. Она знаменует перемену видения мира на путях от образного мышления к понятийному, от мифологического мировоззрения к реалистическому. Это в лирике вселенная впервые заселяется на социальной земле людьми и все функции стихийных сил природы переходят к человеку. Лирика — явление глубоко историческое, появившееся в определенный момент общественного развития. Этим я хочу сказать, что греческая лирика вполне своеобразна, не повторима[Н1] в иных исторических условиях и коренным образом отличается от эллинистической и римской лирики, не говоря о лирике новой.
Греческая лирика возникает в процессах метафоризации, как этапа всеобщей истории человеческого познания, как такого этапа, когда образ впервые получает функцию понятия. Пока нет переносных смыслов, поэтических иносказаний нет. Рождение поэтической метафоры определяет рождение того особого, чрезвычайно своеобразного, еще до-литературного, жанра, который мы привыкли называть условным термином «греческой лирики».
Человек создает картину мира на различных исторических этапах различно. Тут самое главное, самое решающее — это соотношение познаваемого мира и познающего человеческого сознания. В самые ранние периоды человек не отделяет себя от окружающей его природы. В его сознании субъект и объект слиты. Такая слитность, вызывая особые восприятия причины, времени, пространст
|
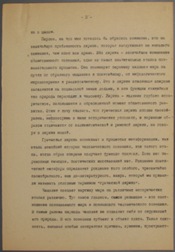 
|
|
ва, порождает мифотворчество — мышленье образами. Каждый образ значит для человека то, что передает, передает то, что значит. Если Гомер говорит «железное небо», то это значит буквально «небо из железа», точней, «небо-железо». Никакого переносного смысла тут нет.
Греческое общество настолько архаично, что в нем еще происходит становление понятий. Однако оно настолько молодо, что этот процесс в нем уже начинается и даже значительно идет вперед, чего общество древнего Востока так и не достигает. Необходимо, однако, учесть, что познавательные процессы отлагаются в виде сложившихся идеологий с большим опозданием и хронологически не совпадают их готовые формы и истоки.
Отделение субъекта от объекта не идет линейным путем. Очень долго продолжается процесс, при котором и субъект и объект выступают в функциях друг друга. Отражение этого длительного процесса дает себя знать еще в VII веке до н. э. Самый разительный тому пример — рождение автора. Это величайшее событие могло произойти только оттого, что сдвинулись представления о видимом мире, и познающий человек отодвинулся от познаваемой им природы. Лирический автор — это автор особенный, ни в каком случае не позднейший лирический поэт, не поэт вообще, а только еще певец, продолжатель песенной, мусической традиции. Анализируя сущность и атрибуции этого лирического автора, я прихожу в своей работе к выводу, что он представляет собой форму своеобразного субъекта, еще полностью не отделенного от объекта, не самостоятельного, но выступающего в его функции. Познающий природу человек еще настолько связан с объектным миром, который он познает, что он представляется самому себе как его
|
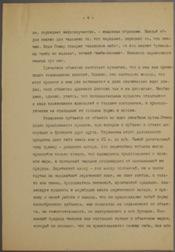 
|
|
орудие, как его пассивная принадлежность. Человек не сознает этого до конца и еще не волен сознавать, но всем своим мироощущеньем он совершенно непроизвольно воспринимает себя в категориях видимого мира, а видимому миру, в лице богов, придает функции познающего субъекта. Все, что создает образ лирического певца, служит тому доказательством. Тут дело не просто в увязке лирики с религией, как это имеет место в вопросах греческой драмы. Тут дело в том, что сам лирический автор предоставляется формой бога. В божестве кристаллизировано представление об уже отделенном от человека мире: но человек, уже отодвинутый от божества, все же продолжает в известных бессознательных актах переживать себя, как одну из его разновидностей. Так, греческая лирика связана с культом. Лирический певец — это форма Аполлона; и по содержанию и по структуре лирическая песня очень близка оракулу. Но я говорю сейчас не о генезисе. Лирический автор продолжает, с познавательной точки зрения, быть божеством. Только это особая его форма, уже не образная, а понятийная. Греческий лирический певец представляет собой обожествленную природу, но воспринятую сквозь нарождающиеся понятия. Об этом говорит все: самосознание певцов, их тематика, их биографические мифы, форма песен, приуроченье лирических жанров. Можно было бы показать, как Сафо воспринималась в категории божества Афродиты, как образ Гиппонакта лепился под Гермеса, как Алкей в Аполлоновом одеянии изображался, по аналогии с Аполлоном, в виде типологического певца-прорицателя. Вообще Алкей — не Пушкин, даже не Гораций, даже не Каллимах. Это аполлоновская фигура в венке, в жреческом одеянии. Архаические поэты близки к образу Эмпедокла, к «богам», имевшим свой культ, к ведунам и вещунам,
|
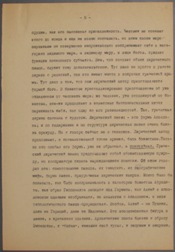 
|
|
связанным и с божескими культами. «Поэты» уже не боги, но у них функция богов. То, что в религии культ, то в мусической традиции быт, опредмеченный мир. Но и этот бытовой сценарий, среди которого выступают лирические певцы, не просто свободная обстановка, не квартира, не письменный стол с чернильницей, не книжка на книжной полке. Лирический сценарий не изучен подобно драматическому; но и то, что известно по крохам, говорит о нем, как о некоем понятийном варианте культа. Пиры, где выступают лирические певцы, религиозные процессии, праздники, характер состязательности, особые одежды, венки, особая поэтическая утварь, атрибуты певцов — цветы, украшения, особая обувь, кифара. Нужно вспомнить на вазах Алкея и Сафо и сопоставить их с вазовыми изображениями богов и героев; людских портретов не рисовали на вазах. То же восприятие людей как богов сказывается и в вымышленных рассказах о жизни и смерти лирических певцов. Мифы о богах и героях становятся биографиями поэтов; культовые темы оказываются темами лириков и их страстями, их переживаниями, историями их жизни. Сафо, подобно Афродите, бросается со скалы из-за любви к Фаону, любимцу Афродиты. Стесихор слепнет и прозревает из-за Елены Аргосской, Ариона, этого умирающего и воскресающего певца спасает дельфин. О смерти Ивика извещают журавли. Индивидуальность певца не воспринимается. Павсаний сообщает, что Анакреонт был изображен в виде пьяного старика. Сильная типизация говорит о том, что субъект еще не выделен в особую познавательную категорию. Для грека Анакреонт — поющий пьяный старик, нечто вроде Силена, верней, тот же мусический и опьяненный вином и любовью бог, но в форме лирического певца Анакреонта. Архилох, Гиппонакт, Тиртей, Терпандр наделены такими же чересчур типизированными, обобщенными чертами либо злобных ипостасей, то
|
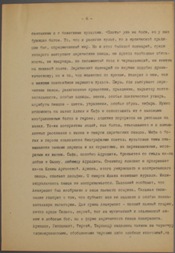 
|
|
хромых, то изгнанных из отечества, то просто рабов или проданных в рабство, либо обладающих особой силой песенной чары или способностью давать усладу. Неукротимые страсти Эроса, владеющие Архилохом, Сафо, Ивиком, Анакреонтом, если их сравнить с чертами самого Эроса, окажутся характеристикой этого божества страсти. Повторяю: я говорю не о мифическом генезисе лириков, а о возникновении их образа в исторической реальности, о познавательном отношении грека VII века до н.э. к лирической реальной личности. И сам лирик, в своем мусическом самосознании, воспринимает себя как боговдохновенного. Он сам верит, что он мусопол, что вино может экстатически приобщать его к Дионису, что Хариты, Музы, Дионис, Афродита, Гермес могут его посетить и выполнить его невыполнимое желание. В знаменитом призыве Сафо к Афродите богиня мыслится прибывающей к поэтессе реально, спускающейся на колеснице с неба; в ее появлении еще нет ничего метафорического, в ней все буквально. Ямбическая функция у лириков тоже продолжает в них инвективных богов. Мы видим по Илиаде, что боги язвят и поносят друг друга, бичуют в буквальном смысле. Точно так же могильная надпись идет сперва от самого героизированного покойника как его собственная речь, а потом уже в его роли и в его функциях появляется эпиграфист и элегик. Лирический певец никем не мыслится богом в прямом смысле, но он непроизвольно продолжает функции божества, лишь преломленные через понятия, обобщенно, каузально, качественно.
Лирический певец поет о себе, но это «себя» очень специфично. Личных эмоций он почти не знает. Прежде всего, нельзя не учитывать внеличной, традиционной формы, в какой поет певец. Затем, нельзя не считаться с тем, что самый еgо-мотив принадлежит архаике и фольклору. Я предлагаю вспомнить личную форму
|
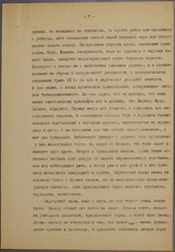 
|
|
хоровых песен, явно безличную по содержанию. Наличие «я»-мотива еще не говорит о переживаниях самого поющего. В то же время лирический автор уже поет не о богах и героях, а о человеке, о себе. Но особенность этого раннего лирического «себя» состоит и в том, что в нем нет чистого «я», оторванного от объективного «оно». Архилох сильно модернизируется переводчиками, которые видят у него психологическое обращение к своей душе, вроде того, как Тютчев говорит: «О, вещая душа моя! О сердце, полное тревоги...» Ничего подобного здесь нет. Архилох разговаривает с конкретной душой, сидящей в его теле. Это уже не гомеровский двойник, μένος, но средоточие духовной силы Архилоха, дум его и состояний, нечто объектное, находящееся в Архилохе,— римлянин сказал бы: «гений его»1. Отделение познающего сознания от познаваемого мира и перемена, в связи с этим, функций образа приводят к разграничению первого и третьего лица, субъекта и объекта познания. Как непроизвольный результат этого нового жизнепонимания, возникает возможность видеть вещь со стороны, вещь, в которой уже не присутствует сам смотрящий. Так создается описание внешнего мира. Пока субъект и объект слиты, оно невозможно. Поэтому в мифе описаний нет. Чтоб иллюстрировать свою мысль, напомню, что в греческом романе, использующем архаические мифы, герои не умеют описывать своих приключений. Они рассказывают их в форме прямых речей, однако в присутствии божества, и затем эти речи, уже записанные, кладут на жертвенник и оставляют в храме. Совершенно ясно, что такое до-описание выполняет функцию жертвоприношения; жертвенное животное само рассказывает о своих страстях и само лежит на алтаре, как эти страсти воочию. Таким образом, здесь не только нет чего-то, что
1 Имеется в виду знаменитое стихотворение (Diehl Fr. 67 a), которое в переводе В.Вересаева начинается так: Сердце, сердце! Грозным строем встали беды пред тобой.Ободрись и встреть их грудью, и ударим на врагов!
|
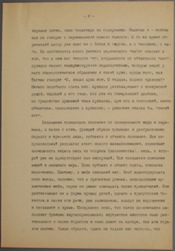 
|