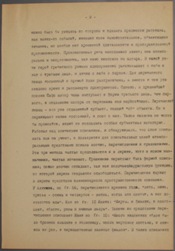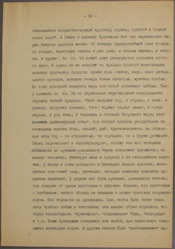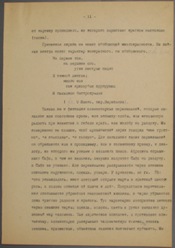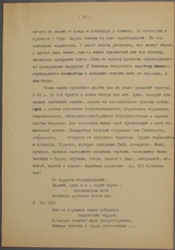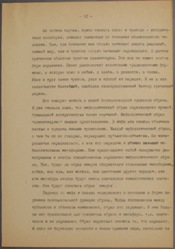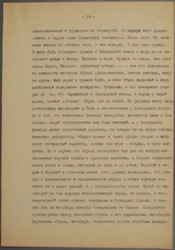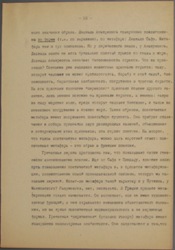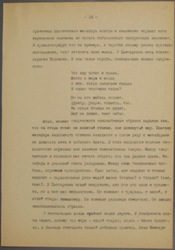Происхождение греческой лирики
Опубл.:
Происхождение греческой лирики / О. Фрейденберг; [пред. Е. Мелетинского и Н. Брагинской] // Вопросы литературы. – 1973. – № 11. – С. 101–123.
|
можно было бы увидеть со стороны и сделать предметом рассказа, как каких-то событий, имевших свое самостоятельное, объективное течение, но вообще нет временной длительности и пространственной протяженности. Произнесенная речь неподвижно лежит; она атемпоральна и непротяженна, как само животное на алтаре. В такой речи герой греческого романа одновременно рассказывает о себе и как о третьем лице и лично о себе в первом. Для лирического певца косвенный и прямой план разграничены, а вместе с тем уже введено время и раздвинуто пространство. Однако в древнейшей поэзии Сафо автор чаще выступает в форме третьего лица, чем первого, и отделение автора от персонажа еще неустойчиво. Лирический певец—это уже отделенный субъект, поющий «об» объекте. Он и переживает некие состояния, и поет о них. Такое явление не могло бы произойти, если б не создалась особая субъективная категория. Работая над эпическим описанием, я обнаруживала, что эпос описывать еще не умеет, а пользуется для описательных целей атемпоральными средствами показа воочию, перечислением и сравнениями. Эти три метода частью продолжаются и в лирике, хотя в новом назначении, частью исчезают. Сравнение перестает быть формой описания; показ воочию отпадает, так как получает нарративную функцию, от которой лирика старается освободиться. Перечисление служит в лирике средством элементарного пространственного описания. У Алкмана, во fr. 561, перечисляются времена года, «лето, зима, третье — осень и четвертое — весна, когда все цветет, а нет достаточно еды». Или во fr. 13 Ивика: «Мирты, и фиалки, и златоцвет, яблоки, розы и нежные лавры». Такими же средствами перечисления описывает Ивик во fr. 10: «Много кидонских яблок было брошено владыке в колесницу, много миртовых листьев, и венков из роз, и переплетенных завитых фиалок». В таких описаниях
1 Фрейденберг ссылается на номера фрагментов по одному из стереотипных изданий: Ernestus Diehl. Antologia Lyria Graeca, fasc. 1—3, Leipzig. Кроме оговоренных случаев, все переводы принадлежат Фрейденберг.
|
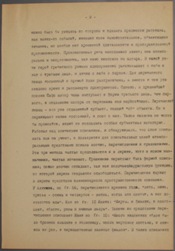 
|
|
сказывается непритязательный кругозор лирика, простой и бедный охват вещей. В «Гимне к Адонису» Праксиллы бог так перечисляет перед смертью радости жизни: «Я покидаю прекраснейший свет солнца, во-вторых, блестящие звезды и лик луны, и спелые смоквы, и яблоки, и груши». Во fr. 94 Алкей дает развернутое описание летнего зноя. И здесь он не выходит за пределы простой констатации внешних признаков природы: время года тяжкое, жара, поет цикада, цветет артишок, женщины теперь самые нечистые, мужчины слабые. Из их описаний внешнего мира сам собой возникает пейзаж. Так, у Алкмана во fr. 58 из формальных перечислений складывается картина спящей природы: «Спят макушки гор, и обрывы, и выси, и ущелья, ползучие племена, [что] кормит черная земля, и звери горные, и род пчел, и чудовища в безднах багряного моря; спят племена длиннокрылых птиц». Эта спящая природа раздроблена на отдельные классы птиц, зверей, рыб, пресмыкающихся, на отдельные виды гор — то обрывистых, то торчащих, то в форме расщелин. Певец перечисляет и классифицирует, потому что его сознание улавливает изменения во времени через состояния предметов: он мыслит статично, фиксируя вещи и природу в их неподвижном наличии. В связи с этим находится и фиксация певцом кратких, монолитных состояний тела, фиксация, которая заменяет описание душевных движений. В лирике нет фона времени, временного потока; она говорит об одном настоящем и кратком. Однако это настоящее — особенное, ничего общего не имеющее с нашим чувством современности. Оно строится на прошедшем. Так, когда Сафо хочет передать чувство любви в настоящем, она вводит образ Афродиты, которая неоднократно «приезжала», «спрашивала» Сафо, «говорила» и т. д. Этим прошедшим заполнена вся песня; для настоящего отводится несколько строк. В других песнях Сафо «воспоминания» да
|
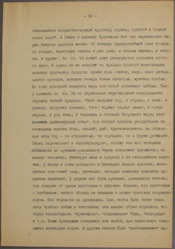 
|
|
ют картину прошедшего, из которого вырастает краткое настоящее (тоска).
Греческая лирика не знает обобщающей многократности. Ее пейзаж всегда носит характер конкретного, не обобщенного, ad hoc:
На дереве том,
на вершине его,
утки пестрые сидят
В темной листве;
много еще там яркозобых пурпурниц
И гальцион быстрокрылых...
(fr., 9 Ивика; перевод В. Вересаева.)
Такова же и фиксация элементарных переживаний, которые выявляют или состояние эроса, или вспышку злобы, или мгновенную радость при известии о гибели врага, или жалобу на разлуку. Мы совершенно не слышим, чтоб архаический лирик говорил: «мне грустно», «я счастлив», «я тоскую». Для выявления своих переживаний он обращается или к прошедшему, или к косвенному приему, к диалогу, из которого мы узнаем о желаниях певца. Афродита спрашивает Сафо, в чем ее желания, девушка жалуется Сафо на разлуку, а Сафо ее утешает. Или переживание раскрывается через внешнее описание наружности, одежды, утвари. У Архилоха, во fr. 25: «она услаждалась, имея цветущий отпрыск мирты и красивый цветок розы, а волосы осеняли ей плечи и лоб». Посредством перечисления описывается убранство неизвестной женщины, а через убранство дано чувство радости и красоты. Тут характерно восприятие личного через внешние черты: одежда, волосы, цветы в руках выявляют душевный мир человека. Так лирическое описание, в противовес эпическому, элементарно раскрывает человеческую стихию, сквозь внешние, предметные, объектные явления постигает субъекта. Мы
|
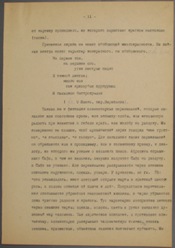 
|
|
ничего не знаем об Агидо и Агесихоре у Алкмана, об Анактории к Аригноте у Сафо. Лирика совсем не дает характеристик. Но она описывает наружность. У одной волосы распущены, или пахнут миррой, у другой лицо сияет, третья имеет прелестный лик или походку, четвертая прекрасно одета. Один из врагов Архилоха характеризуется прожорливым желудком. У Семонида Аморгского характер женщины определяется внешностью и внешними чертами даже не человека, а животного.
Точно так же греческая лирика еще не знает движений чувства. В VII веке до н. э. чувств в нашем смысле еще нет. Эрос, который описывают греческие лирики, далеко не соответствует чувству любви. Эрос — особое состояние богоохваченности, страстного страдания, смертоносного, гибельного, необоримого богоприсутствия в жалком, слабом человеке. Это состояние имеет свой трагический и свой комический аспект. Папирусные находки открывают нам Гиппонакта, обсценность которого не допускает перевода. Трудно переводить и Архилоха. Страсть, которую описывают Сафо, Анакреонт, Ивик, Архилох, всецело выявляется внешними чертами, совершенно физическими — болью, корчами, потом, звоном в ушах, лихорадкой, немотой, мраком в глазах. Вересаев переводит fr. 104 Архилоха так:
От страсти обезжизневший,
Жалкий, лежу я, и волей богов несказанные муки
Насквозь пронзают кости мне.
И fr. 112:
Эта-то страстная жажда любовная, переполнив сердце,
В глазах великий мрак распространила,
Нежные чувства в груди уничтоживши.
|
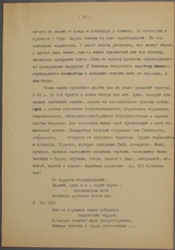 
|
|
Во всяком случае, нужно сказать одно: и чувство — историческая категория, всецело зависящая от сознания общественного человека. Там, где сознание еще только начинает видеть реальный, земной мир, там и чувство только начинает зарождаться. В раннем греческом обществе чувства элементарны. Они еще не имеют особых форм выражения. Певец располагает известными традиционными формами, в которых поет о любви, о злобе, о ревности, о тоске. Узок и круг таких чувств, узок и способ их передач. И не в них заключается ближайший, наиболее непосредственный факт греческой лирики.
Его следует искать в новой познавательной сущности образа. Я уже сказала выше, что мифологический образ определяется прямой, буквальной конкретностью своих значений. Мифологический образ «олицетворяет» каждое представление. В мифе все смыслы облечены плотью и сделаны живыми существами. Каждый мифологический образ, о чем бы он ни говорил, неразрывно субъектно-объектен. Он может различно передаваться, и эти его передачи я обычно называю мифологическими метафорами. Они представляют собой совершенно равноправные и всегда тождественные выражения мифологического образа. Так, будет ли образ смерти оформляться отдельными метафорами, любви, или еды, или могилы, или десятками других передач, все эти метафоры всегда будут иметь одинаковое семантическое значение. Они будут означать образ ‛смерти’.
Переход от мифа к поэзии совершается в сознании в форме перемены познавательной функции образа. Когда соотношение между субъектом и объектом изменяется, образ это отражает. В нем больше нет предпосылок для тождества образа и метафоры, то есть значимости и ее выражения. Образ перестает значить то, что выражает. И хотя он формально остается в своем прежнем виде, нисколько н
|
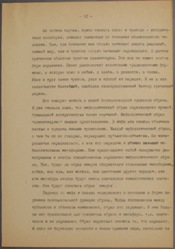 
|
|
видоизмененный и формально не сдвинутый, он расщепляется и теряет свою буквальную значимость. Более того. Он начинает именно не значить того, о чем говорит. Я дам один пример. В мифе Сафо совершает прыжок с Левкадской скалы в море из-за неудачной любви к Фаону, Падение в море, прыжок со скалы, имя этой скалы Белая, Сияющая, неудачная любовь,—все это одинаковые по семантике метафоры образа эроса — светила, захода светила, смерти эроса. Миф верит в прыжок Сафо, и этот образ падающей в море влюбленной совершенно конкретен, буквален. А вотАнакреонт говорит во fr. 17: «Брошенный с Левкадской скалы, я ныряю в седой волне, пьяный любовью». Образ тот же самый. Но разница между мифологическими метафорами у Сафо и поэтическими у Анакреонта состоит в том, что сафическая Левкада конкретна, конкретна даже в том случае, если б географически она была фикцией, а у Анакреонта Левкада носит отвлеченный характер, невзирая ни на какую географическую реальность. «Седая волна» и «вино эроса» только в мифе носят конкретный характер, потому что море — старец, а эрос вакхичен. Но в лирике оба образа пользуются как раз не конкретным значением морской седины и эросного вакхизма, а только сходством цвета волос и волны, экстазом от вина и от любви, борьбой с морем и борьбой с чувством любви. Этот пример показывает, что вопрос о конкретности и отвлеченности образа в обоих случаях ставится не в плане реалий, а в познавательном плане. Какой бы метафорой ни был выражен мифологический образ, он всегда, с познавательной точки зрения, конкретен и буквален. Однако в поэзии эти же метафоры никогда буквальными не бывают. Появляется противоречие между значением образа и его выражением, метафорой. Выражение образа, метафора, становится только подобием конкрет
|
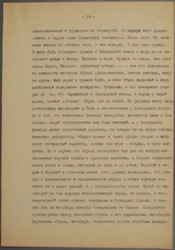 
|
|
ного значения образа. Левкада Анакреонта совершенно тождественна по форме (то есть по выражению, по метафоре) Левкаде Сафо. Метафора там и тут одинакова. Но у лирического певца, у Анакреонта, Левкада вовсе не есть буквально понятый прыжок со скалы в море. Левкада Анакреонта означает беспомощность страсти. Что же произошло? Сознание уже выделило известные признаки страсти: силу, которой человек не может противостоять, борьбу с этой силой, беспомощность, барахтанье влюбленного, погружение в чувство страсти. На эти признаки сознание «переносит» признаки совсем другого явления, лишь внешне похожие на признаки страсти, а именно: такую же силу морских волн, среди которых человек бессилен, и такое же внезапное погружение в стихию моря. Таким образом, поэтическая метафора имеет непременно понятийную сущность. Она требует отвлечения и отбора признаков двух разнородных явлений, объединения и отсортировки этих признаков, она строит понятие. На вопрос, что такое поэтическая метафора, можно дать короткий ответ: поэтическая метафора — это образ в функции понятия.
Греческая лирика драгоценна тем, что показывает своим генезисом возникновение поэзии. Идя от Сафо к Пиндару, классик видит путь становления поэтической метафоры и, в процессе метафоризации, возникновение новой познавательной системы, которую мы называем лирикой. Носит ли метафора такой характер и у Пушкина, у Маяковского? Разумеется, нет, нисколько. В Греции процесс метафоризации только начинается. Он возникает, еще не имея художественных функций; в нем отражается изменение общественного сознания, но не яркая поэтическая индивидуальность в ее вершинных формах. Греческая «лирическая» (условно говоря) метафора имеет совершенно неповторимые особенности. Они заключаются в том, что
|
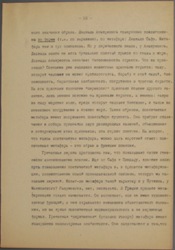 
|
|
греческая поэтическая метафора всегда и неизменно черпает свое переносное значение из своего собственного конкретного значения. Я проиллюстрирую это на примере и нарочно возьму резкое противопоставление, чтоб оттенить свою мысль. У Пастернака есть стихотворение «Художник». В нем такие строфы, описывающие момент творчества:
Что ему почет и слава,
Место в мире и молва
В миг, когда дыханьем сплава
В слово сплочены слова?
Он на это мебель стопит,
Дружбу, разум, совесть, быт.
На столе стакан не допит,
Век не дожит, свет забыт.1
Итак, момент творческого самозабвения образно выражен тем, что на столе стоит недопитый стакан, как покинутый мир. Поэтому метафора недопитого стакана находится в одном ряду с метафорами недожитого века и забытого света. В этом недопитом стакане символически передано все великое самозабвенье творца. Между творчеством и стаканом нет ничего общего: это два разных плана. Метафора и реальный смысл разорваны. Между ними бесконечная свобода, огромное пространство. Свет забыт, век не дожит и стакан не допит — параллельные ряды малой жизни (стакан) и большой (век, свет). У Пастернака новый микрокосм, все эти его вещи и предметы, но в них нет мифологизма. Он снимает с природы, с вещей, с людей старую семантику. Он снимает условную семантику. Он вводит многоплановость образов.
Я сознательно взяла крайний полюс лирики, У Анакреонта волна седая, потому что море — седой старец, волна — живое существо, а Левкада считалась скалой любовных прыжков. Если Мимнерм
1 В письме брату от 31.1.1947 Фрейденберг писала: «Хочу сказать тебе вот о чем. В январе я, по своей традиции, единственно живой для меня, выступала на ежегодной научной сессии Ун-та. Ее трижды откладывали, с ноября на декабрь, с декабря 46 г. на январь 47-го. Посылаю тебе тезисы. В самом докладе я показывала неповторимые особенности древнегреческой метафоры, и чтоб показать это как следует, взяла полюс, пример твоего художника из «ранних поездов», там, помнишь, «на столе стакан не допит» — все это место такое замечательное. Зал слушал с напряженным вниманием (о нашем родстве знали только друзья). На тебе (так сказать) мне удалось понять античную поэтическую метафору. Об этой разнице как-нибудь поговорим. Мне очень хочется сделать статью «К теории метафоры», т. к. я имею тут ряд новых мыслей, и притом чисто своих, т. е. на основании многих и многолетних работ. Я пишу книгу о происхождении греческой лирики, и сейчас много нового написала о Сафо, досель незамеченного. Что дала бы такая публикация. Но абсолютно никаких перспектив. Заметки, и той не напечатать».
|
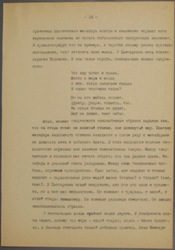 
|