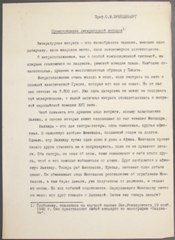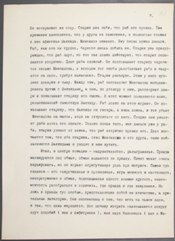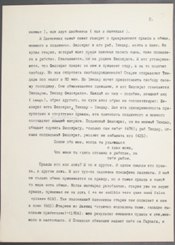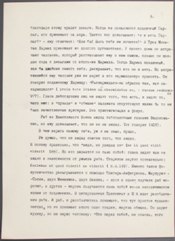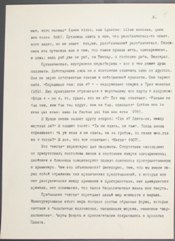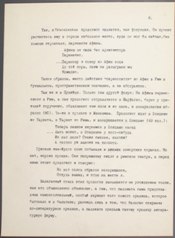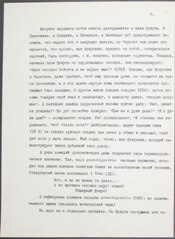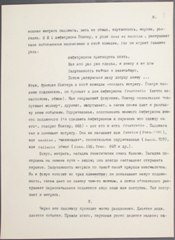Происхождение литературной интриги
Опубл.: Из научного наследия О. М. Фрейденберг : Происхождение литературной интриги / публикация Ю. М. Лотмана // Труды по знаковым системам. VI. – Тарту,1973. – С.497–512. – (Ученые записки Тартуского государственного университета; вып.308).
|
Происхождение* литературной интриги1
Литературная интрига — это своеобразное явление, имеющее свою датировку, свое жанровое место, свое закономерное возникновение.
С интригосложением, как с особой композиционной системой, мы впервые знакомимся по паллиате, римской комедии плаща. Наиболее показательные, древние и многочисленные образцы у Плавта.
Интригосложение очень молодо и ново, если смотреть на него с позиций классической Греции, которая его еще не знает. Но от нас оно отстоит на 2200 лет. Уже одна датировка не может не подорвать той модернизации, с какой античная интрига отождествлялась с интригой европейской комедии XVII века.
Чтоб показать это древнее лицо интриги, возьму плавтовских Вакхид, в основе которых лежит не дошедшая до нас комедия Менандра.
Вакхиды — это две сестры-гетеры, одна самосская, другая афинская. В самосскую влюблен Мнесилох, посланный отцом за долгом. Однако эту Вакхиду купил один воин и увез в Афины. Мнесилох просит своего друга отыскать ее и попридержать, пока он не привезет деньги. Обе сестры, не зная об этом, сами заманивают к себе этого друга, чтоб с его помощью избавиться от воина. Друг влюбляется в афинскую Вакхиду. Теперь раб Мнесилоха, Хрисал, затевает план добычи денег. Он обманывает отца Мнесилоха рассказами об ограблении Мнесилоха, а сам берет деньги, уже полученные от должника, и отдает их юноше. Но ход событий осложняется. Вернувшемуся Мнесилоху ничто не мило: его друг сошелся с Вакхидой. Зачем ему теперь деньги?
1 Сообщение, сделанное на научной сессии Лен. Университета 19 ноября 1945 г. Оно представляет собой эксцерпт из монографии «Паллиата».
|
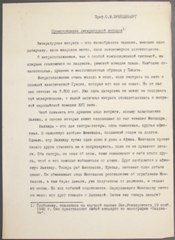 
|
|
Он возвращает их отцу. Старик вне себя, что раб его провел. Тем временем выясняется, что у друга не самосская, а полностью схожая с нею афинская Вакхида. Мнесилох оживает. Ему снова нужны деньги. Раб, как это ни трудно, берется вновь добыть их. Старик уже предупрежден, что раб плут, но тот так ловко действует, что старик попадается вторично. План раба сложный. Он подсовывает старику нарочитое письмо Мнесилоха, в котором тот якобы разоблачает раба и жалуется на него, требуя наказания. Старик разъярен. Этим у него куплено доверие к сыну. Между тем, раб заставляет Мнесилоха инсценировать кутеж с Вак* хидами, а сам, по уговору с ним, растворяет двери и показывает старику его сынка. В тот момент появляется воин, разыскивающий самосскую Вакхиду. Раб ловко на этом играет. Он доказывает старику, что Вакхида не гетера, а жена воина, и тот убьет Мнесилоха на месте, если не откупиться от него. Старик сам умоляет раба взять его деньги. Только после того, как деньги уже у раба, старик узнает от воина, что раб вторично провел его. Дело кончается там, что оба старика, отец Мнесилоха и его друга, cами соблазняются Вакхидами и уходят к ним кутить.
Итак, в центре комедии — надувательство, разыгрывание. Правда маскируется под обман, обман выдается за правду. Сюжет может очень варьировать, но он играет атрибутивную роль при интриге. Самое тут главное — его закручиванье и проведенье, игра мнимого и настоящего, недоразумения и обман, подсовыванье одного взамен другого, невозможность разобраться и отличить, где правда и где кажущееся. Но ложь и правда тут особые, представляющие собой не этические, а зрительные категории. Они соотнесены с тем, что есть на самом деле, и тем, что лишь мерещится. Вот почему интрига завязывается вокруг двух подобий (как в Амфитрионе), или двух близнецов (как в Ме
|
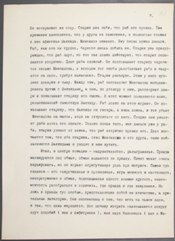 
|
|
нехмах), или двух двойников (как в Вакхидах).
В Пленниках самый сюжет говорит о превращениях правды в обман, мнимого в подлинное. Филократ и его раб, Тиндар, взяты в плен. Их купил старик, который ищет среди пленных своего сына, тоже попавшего в рабство. Оказывается, тот на родине Филократа. И вот уговариваются, что Филократ поедет за ним и привезет отцу, а за то получит свободу. Но как отпустить свободнорожденного? Старик отправляет Тиндара под залог в 20 мин. Но Тиндар хочет предоставить свободу своему господину. Они обмениваются одеждами, и вот Филократ становится Тиндаром, Тиндар Филократом. Каждый из них — подобие, внешний вид (imago), образ другого, но сути этот образ не соответствует: Филократ есть Филократ, Тиндар — Тиндар. Вот эта одновременность присутствия и отсутствия правды, эта слитность подлинного и мнимого составляет своеобразие интриги. Подлинный Филократ, он же мнимый Тиндар, обещает служить Филократу, «словно сам себе» (428); раб Тиндар, отныне поддельный Филократ, умоляет не забывать его (435):
Помни обо мне, когда ты удалишься
с глаз моих,
Что меня ты здесь оставил в рабстве за
тебя рабом.
Правда это или ложь? И то и другое. В одном смысле это правда, в другом ложь. И вот тут-то заложена специфика паллиаты. В ней не только обман принимается за правду, но и самая правда в какой-то мере есть обман. Когда маскарад разоблачен, старик уже не верит правде, принимая ее за ложь (ех me audibis vera, quae nunc falsa opinare 619). Так полонивший пленников старик сам попадает к ним в плен (653). Старики из Вакхид «отлично изловлены сами, западню сыновьям приготовив!» (1206): это результат смешения правды и лжи, мнимого и настоящего. В Псевдоле обманщик выдает себя за Гарпага и
|
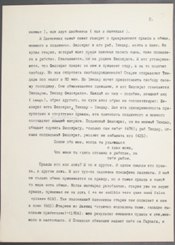 
|
|
благодаря этому крадет деньги. Когда же появляется подлинный Гарпаг, его принимают за вора. Тщетно тот доказывает: «я и есть Гарпаг!» — ему отвечают: «Еще бы! Быть тебе им хочется!» В Трех Монетах Хармид приезжает из долгого путешествия. У своего дома он встречает человека, который рассказывает ему о нем самом, словно он послан сюда с деньгами от этого же Хармида. Тогда Хармид подлинный, как бы двойник самого себя, раскрывает, что это он и есть. Но встретившийся ему человек уже не верит в его хармидовскую сущность. Он говорит подлинному Хармиду: «Расхармидься-ка обратно, так, как захармидился (proin tute itidem ut charmidatus es*, + rursum recharmida 977). Глаза действующих лиц не видят того, что есть, и видят то, чего нет: в «правде» и «обмане» паллиаты отсутствуют какие бы то ни было качественные критерии. Это престигитация и фокус.
499
Раб* из Хвастливого Воина видел собственными глазами Филокомасию, но ему доказывают, что он ее не видел. Тот говорил (402):
В чем верить самому себе, уж я не знаю, право,
Уж думаю, что не видал совсем того, что видел.
И потому правильно, что «видя, не увидел он» (ne id quod vidit viderit 588). Но это делается не само собой: глаза видят или не видят в зависимости от умысла раба. Стариком вертят сознательно: faciemus ut quod viderit ne viderit (М. G. 149). Именно такое фокусничество разыгрывается с помощью Юпитера-Амфитриона, Меркурия-Сосни, двух Менехмов, двух Вакхид, — хотя в одних случаях раб молчит, в других — морока получается сама собой из-за неотличимости копии от подлинника. В цитированных Пленниках в III, 4 идет разоблачение раба. И раб, и разоблачитель понимают, что тут простое жульничество, но не понимает этого один старик, жертва обмана. Он верит жулику, но не верит честному: «Кто перед тобой, не знаешь, кого
|
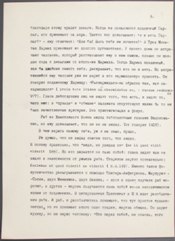 
|
|
нет, того назвал» (quem vides, eum ignoras: illum nominas, quem non vides 566). Путаница здесь в том, что разоблачитель-то знает, кого видит, но не знает старик, разоблачающий разоблачителя. Осложнена эта путаница еще и тем, что самое правда есть, одновременно, и ложь: ведь раб уже не раб, не Тиндар, а господин раба, Филократ.
Органическая внутренняя неразбериха — вот в чем лежит душа паллиаты. Действующие лица не в состоянии отличить одно от другого. Они де верят собственным глазам и собственной сущности. Они теряют себя. «Спрашиваю сам: где я?» — недоумевает старик в Трех монетах (929). Ему приходится обращаться к морочащему его плуту с вопросом: «Если, я — не я, то, право, кто же я?» Тот ему отвечает: «Раньше не был тем, кем был ты; вдруг, кем не был, сделался» (prius non is eras qui eras: nunc is factus, qui tum non eras 978).
В Купце юноша задает другу вопрос: «Где я? Здесь ли, между мертвых ли?» И слышит ответ: «Ты ни здесь, ни там». Тогда юноша спрашивает: «А уж если я ни здесь, ни за гробом, то скажи мне, где же я тогда?». И вот что тот отвечает: «Нигде» (602).
Это «нигде» характерно для паллиаты. Отсутствие неотделимо от присутствия; состояние жизни и состояние смерти одновременны; двойники и близнецы олицетворяют полную слитность, пространственную и временную. Чем это объясняется? Бесспорно тем, что мы имеем перед собой отражение тех архаических представлений, в которых еще нет разграничения между временем и пространством, нет движущегося времени, нет понимания, что такое биологическая жизнь или смерть.
Пребывание «нигде» порождает целый мир мнимости и миража. Конструированье этого мира создало особые формы, которые застыли в балаганных иллюзионах, насыланьях мороки, невинном «шарлатанстве». Черты фокуса и престигитации сохранились в прологах Плавта.
|
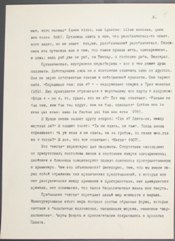 
|
|
Так, в Truculentus прологист является как фокусник. Он просит расчистить ему в городе небольшое место, куда он мог бы сейчас, без помощи строителя, перенести Афины.
Афины он сюда без архитектора
Перенесет.
. .. Переношу я сцену из Афин сюда
До той поры, пока не разыграем мы
Комедию.
Таким образом, место действия «переносится» из Афин в Рим в буквальном, пространственном значении, а не абстрактно.
Так и в Пунийце. Только там другой фокус: не Афины переносятся в Рим, а сам прологист отправляется в Карфаген, берет у зрителей поручения*, обделывает там свои и их дела, и возвращается обратно (80). То же в прологе к Менехмам. Прологист идет в Эпидамн из Тарента, в Тарент из Рима и возвращается в Эпидамн (49 слл.):
Теперь пешком вернемся в Эпидамн назад
Быть может в Эпидамне у кого-нибудь
Из вас дела? Скажи смелее, выложи!
А заодно уж выложи на хлопоты.
Зрители как будто сами побывали в дивных заморских странах. Но нет, морока прошла. Они по-прежнему сидят в римском театре, а перед ними стоит прологист и говорит:
Но вот опять обратно возвращаюсь,
Откуда вышел, и стою на месте я.
Балаганный стиль этих прологов вызывается не угождением толпе, как это обыкновенно объясняют, а тем, что паллиата сама представляла самостоятельный, особый вариант того самого зрелища, которое бытовало в балагане; разница лишь в том, что балаган сохранял до-литературное зрелище, а паллиата придала такому зрелищу литературную форму.
|
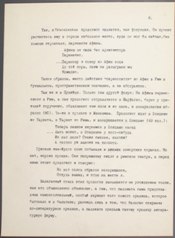 
|
|
Интрига паллиаты почти всегда раскрывается в виде фокуса. В Пленниках, в Эпидике, в Псевдоле, в Вакхидах раб предупреждает хозяина, что надует его и выкрадет деньги: он берется так ловко его пронести, что просит, как фокусник, следить за собой, остерегаться плутней, быть настороже, — и, конечно, достигает торжества. Псевдол, начиная свои фокусы по одурачиванью хозяина, сам сигнализирует: «Меня сегодня бойтесь и не верьте мне!» (128). Эпидик, как фокусник в балагане, даже требует, чтобы ему связали руки: он остается на сцене связанным, а в это время внутри дома неожиданно появляется пропавшая было девушка. В другом месте Эпидик говорит (308): пусть хозяин «запрет свой шкап и запечатает, я выколочу денег, сколько вздумаю». В Вакхидах дважды одураченный хозяин кричит рабу: «Нет, денег не утаишь!» Но раб спокойно говорит: «Сам же в руки дашь!» «Я в руки дам?» — возмущается старик. Раб подхватывает: «И станешь сам упрашивать, чтоб только взял!» Действительно, двумя сценами ниже (IV 8) на глазах зрителя старик сам лезет в обман и умоляет, чтобы раб взял у него деньги. Раб гордо стоит, как фокусник, который демонстрирует перед публикой свою удачу.
В ряде комедий престигитация даже сохраняет свое терминологическое значение. Так, mala praestigiatrix названа служанка, которая под видом поисков повитухи бежит за возлюбленным своей госпожи. Отвергнутый юноша восклицает (Truc. 133):
Его, а не ее идешь ты звать...
А из мужчины женщина вдруг вышла?
Скверный фокус!
В Амфитрионе Алкмена названа praestigiatrix (782); из запечатанного ящика оказалась исчезнувшей чаша!
Но дело не в отдельных пассажах. На фокусе построена вся ос
|
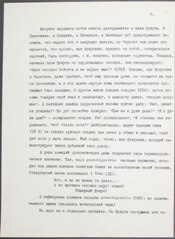 
|
|
новная интрига паллиаты, весь ее обман, спутанность, морока, разгадка. В III, I Амфитриона Юпитер, в роли deus ex machina, раскрывает свое собственное назначение в этой комедии, где он играет главную роль:
Амфитрионом притворюсь опять,
Как это раз уж сделал, и внесу в их дом
Запутанность сейчас я величайшую,
Потом раскрыться делу допущу всему . . .
Итак, функция Юпитера в этой комедии — создать интригу. Говоря словами подлинника, он бросает в дом Амфитриона frustratio (нечто ненастоящее, обман). Как заправский фокусник. Юпитер сознательно «напускает мороку», дурачит, запутывает, а затем он же дает и разгадку всем событиям. Оду* рачиванье, подстановка мнимого Амфитриона вместо подлинного («я сделаюсь Амфитрионом и переменю мою одежду на его», говорит Юпитер, вот это и есть frustratio. Паллиата так и понимает интригу. Она ее называет или fabrica (Роеn. 1100), или machina «махинация», сознательное одурачиванье (Вассh. 232), или fallacia «обман» (Роеn. 195, Тruc. 892 и др.).
Фокус, интрига, загадка генетически очень близки. Загадка построена на замене сути — видом; она всегда заставляет открывать скрытое. Запутанность интриги по самой своей природе энигматична. Но и фокус состоит из трех элементов: он показывает некую подлинность, затем дает ее замену чем-то мнимым, а потом обязательно раскрывает первоначально подлинное лицо вещи или поступка. Так поступает и интрига.
2.
Через всю паллиату проходит мотив раздвоения. Двоятся люди, двоятся события. Прежде всего, персонаж резко делится надвое: од
|
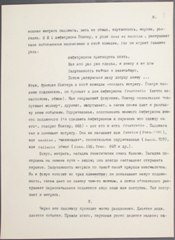 
|