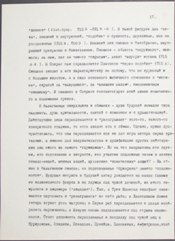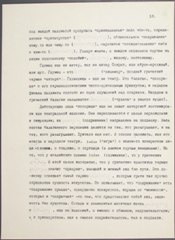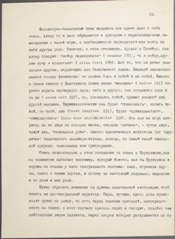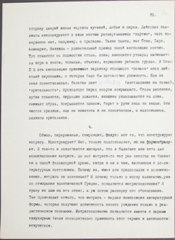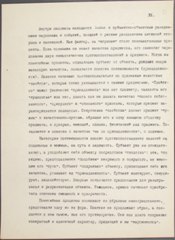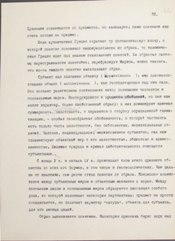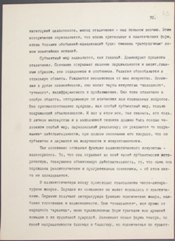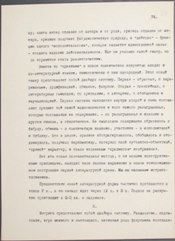Происхождение литературной интриги
Опубл.: Из научного наследия О. М. Фрейденберг : Происхождение литературной интриги / публикация Ю. М. Лотмана // Труды по знаковым системам. VI. – Тарту,1973. – С.497–512. – (Ученые записки Тартуского государственного университета; вып.308).
|
«дивное» (Рlat. Symp. 215 В – 221 DЕ). В такой фигурке два «лика», внешний и внутренний, «подобие» и сущность, двуединые, еще не раздвоенные (215 В, 216 D). Внешний лик смешон и безобразен, внутренний прекрасен и божествен. Смешное — область «наружного», мнимого; за ним, как за чем-то «скрытым», лежит «внутри» истина (215 АВ). И Сократ сам определяется Платоном «через подобия» (215 А). Смешное входит в его характеристику не потому, что он курносый и с большим животом, а в силу основного античного отношения к «истине», скрытой за «кажущимся», за «внешним видом», синонимичным «смешному». И смешное в Сократе соответствует всей линии комического в понимании греков.
В балаганных симуляциях и обманах — душа будущей комедии типа паллиаты, душа зрительности, слитой с комизмом и с драматизацией. Действующие лица переодеваются и «разыгрывают» кого-то, какого-то конкретного старика, то есть вводят его в обман. Однако нужно прочувствовать, что они переодеваются еще не для игры актера перед зрителями, а именно для надувательства и лудификации других действующих лиц этого же самого «глумилища». Но на что направлены эти плутни, это состязание в хитрости, это участие подложных писем и всяких псевдо-вещей, мнимых вещей, шутовских «комических» вещей? — На обман в балаганном смысле, на подсовывание «призрака» вместо «подлинности». Будущая интрига и будущий актер рождаются на наших глазах из иллюзионного фокуса и из глумца под чужой личиной, из этого симулянта и лицемера («лицедея»). Так, в Трех Монетах сикофант нанимается плутовать и «разыгрывать» из себя раба; в Хвастливом Воине гетера играет роль матроны; в Персе раб переодевается с целью изобразить персиянина; в Евнухе юноша подделывается под стража невинности. Стоит вспомнить переодеванья и подделку под чужой вид в Куркулионе, Эпидике, Псевдоле, Пунийце, Пленниках, Амфитрионе, чтоб
|
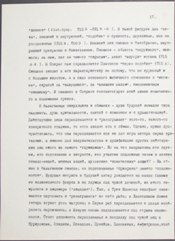 
|
|
под каждой паллиатой прощупать «прикидыванье» подо что-то, определенное «притворство» (προσποίησις), обязательное «подражание» кому-то или чему-то (μίμησις), нарочитое «отождествлению» себя с кем-то (ὁμοίωσις). Говоря иначе, в каждом отдельном случае мы видим подстановку «подобий», εἴκελος, живому, настоящему.
Глумец еще не актер, как не актер Сократ, или эйрон-юродивый, или шут. Глумец — это ὑποκριτής («лицемер», поздний греческий термин «актера»). Глумилище — еще не театр. Это балаган, «позорище» с его терминологическим чисто-зрительным привкусом; и недаром финалы паллиаты состоят из сцен глумлений над стариком. Недаром и греческий балаган называется θαύματα («чудеса» в смысле кудес).
Действующие лица «позорища» еще не знают актерской костюмировки или театральной иллюзии. Они переодеваются с целью перелицовки и симуляции; их μίμησις (подражание) направлена на подделку. Весь состав балаганного персонала делится на тех, кто разыгрывает, и на тех, кого разыгрывают. Зрителя еще нет. В основе паллиаты, как это всегда в народном театре, ludos («игра») о каком-то конкретном лице — о воине, о старике, о торговце (в данном случае, женщинами). Но, та, что у италийских племен ludos (глумилище), то у греческих μῖμος. В этой связи интересно, что у* греческих классиков термин μίμημα значит «признак», внешний и мнимый вид без сути. Это по-иному освещает самый термин μιμησις, которым греки так прочно определяли сущность искусства. Он показывает, что «подражание есть «подражание правде», совершенно конкретное, идущее от «мнимости», которая и «подражает» — то тем, что представляет собой вид, видимость без существа. Отсюда и знаменитая античная связь μίμησις, с ἀπάτη, еще не с иллюзией, а именно с обманом, надувательством, — с притворством, как в смысле подражательства, так и подделки.
|
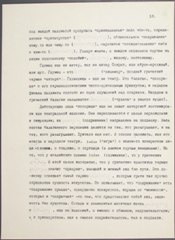 
|
|
Фольклорно-балаганный план паллиаты все время дает о себе знать. Актер то и дело обращается к зрителям с парабатическими замечаниями о своей игре, о необходимости переодеться или взять на себя другую роль. Типичен, в этом отношении, пролог к Пунийцу, где актер говорит: «пойду переоденусь» (ornabar 123), «а я пойду, другим хочу я сделаться» (alius fieri 128). Вот то, что он хочет сделаться другим, характерно для балаганного плана. Лицедей перевоплощается только физически: он должен быть и собой и не собой. Именно в таком смысле в Хвастливом Воине некая «женщина» (mulier 151) берется играть поочередно двух, себя и другого, она останется одна и та же (eadem erit 152), но, оставаясь собой, примет внешний вид другой женщины. Терминологически она будет «показывать», носить чужой, не свой, лик (feret imaginem 151), будет «прикидываться», «симулировать» (alia esse adsimilabitur 152). Это еще не игра актрисы; на ее лице не столько маска, сколько «личина», — чужое лицо, чужой вид, «накладная рожа». Вместо сценического искусства тут «двуличие» балаганного лицемера-игреца, всегда по самой своей смысловой природе самозванца или притворщика.
Очень показательна в этом отношении та сцена в Куркулионе, где на подмостки выбегает костюмер, который боится, как бы Куркулион и впрямь не стащил у него театрального костюма: лицо, играющее плута, слито с самим плутом, и потому он настоящий надувало, шарлатан и по роли и вне роли.
Нужно обратить внимание на приемы плавтовской экспозиции, чтоб понять их до-театральный характер. Пиры, кутежи, эрос, роды происходят прямо на улице, то есть перед глазами зрителей, непосредственно на сцене. В этих случаях зритель сидит и смотрит, подобно тем действующим лицам паллиаты, перед взором которых раскрываются по ту
|
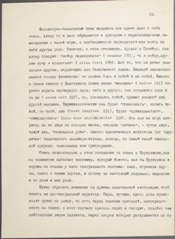 
|
|
сторону дверей живые картины кутежей, любви и пиров. Действие паллиаты экспонируется в виде воочию развертываемых «картин», чего совершенно нет, например, в трагедии. Такие пьесы, как Стих, Перс, Азинария, Вакхиды — удивительный пример такой экспозиции воочию. Тут ставятся на подмостки столы, ложа; выносится утварь: начинается игра в кости, чоканье, объятия, кормление ребенка грудью. В Тruc. II, 5 эта экспозиция принимает характер сплошного «показа» всех действий персонажа, о которых было бы достаточно упомянуть. Еще не зная повествования, балаган дает ἐπίδειξις (выставление на показ), «зрительность», проходящую перед взором взирающего. Столы вносятся, кубки ставятся, пирующие ложатся, женщина укладывается на ложе, снимает обувь, покрывается плащом, берет в руки вещь за вещью. Это чистое зрелище, еще не сюжетное и не сценическое, а иллюзионное, целиком зрительное.
4.
Обман, переряженье, симуляция, фокус: вот то, что конструирует интригу. Конструирует? Нет, только подготовляет, но не формообразует. В том-то и заключается интерес, что в балагане все есть для возникновения интриги, да вот интриги-то как раз никогда не бывает ни в одной фольклорной драме, нигде и ни в чем, связанном с до-литературным состояние. Почему же, имея все предпосылки к возникновению, интрига не возникает?
И* почему только в эпоху эллинизма, уже по отмирании классической Греции, появляется интригосложение? Я сразу же дам на это ответ, а уж потом разверну его обоснование. Так происходит оттого, что интрига — первая композиция литературной формы, которая получает возможность своего рождения только в реалистическом сознании. Интригосложение появляется вместе с первым секулярным (если позволительно применять этот термин (к античности) искусством.
|
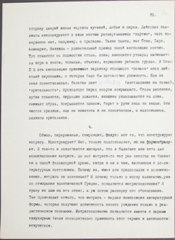 
|
|
Внутри паллиаты находится ludos с субъектно-объектным раздвоением персонажа и событий, поздней с резким разделением активной стороны и пассивной. Как фактор, за «игрищем» стоят познавательные процессы. Пока сознание не знает качества предметов, его заменяет чередование двух семантических противопоставлений в предмете. Когда же понятийные процессы, отделяющие субъект от объекта, рождают новую категорию качества, появляется понятие поссесивности (принадлежности). Явления начинают противополагаться по признакам известных «свойств», которые тесно увязываются с самими предметами. «Свойство» может физически «принадлежать» или нет предмету, наделять его «сущностью» или нет, давать или не давать качество «своего собственного», «присущего» и «основного» признака, которым предмет характеризуется полностью. Отсутствие «свойства» делает предмет «чужим» и качественно-пустым, обращая его в одну внешнюю оболочку предмета, в призрак, имеющий, однако, физический вид предмета. Появляется и понятие о качестве «не по принадлежности», о подмене.
Категория поссесивности вносит противопоставление явлений на подлинные и мнимые, на суть и видимость. Субъект уже не отождествляет, а уподобляет себя объекту посредством «сходства»: все, что видимо, представляется «подобием» незримого и сокрытого, не имеющего его «сути». Субъект «подражает» объекту, приписывает себе его качества, утаивает их «принадлежность». Субъект имитирует, симулирует, лицедействует. Впервые появляются предпосылки для разыгрывания и репрезентации объекта. Реальное, зримое начинает приобретать значении смешного и призрачного. Понятийные процессы возникают из образных непосредственно, представляя одну из их форм. Понятия не продолжают образ, а создаются в нем самом, как его противоречие. Они еще долго сохраняют конкретный и единичный характер, придающий и им «картинность».
|
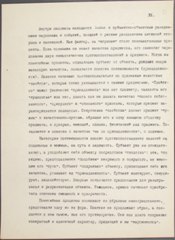 
|
|
Признаки отвлекаются от предметов, но лапидарно; сами признаки еще очень похожи на предмет. Если архаическая Греция отражает ту познавательную эпоху, в которой понятия возникают непосредственно из образа, то классическая Греция идет под знаком становления понятий. Ее образная система перестраивается понятийно; перефразируя Маркса, можно сказать, что из-за каждого понятия выглядывает образ.
Субъект еще подчинен объекту (hypokeimenon); ему противопоставлен объект (antikeimenon), как господствующая над ним сила. Это создает религиозное соотношение и процессы обобщений, но они еще носят характер более свойственный образу: в них доминирует суммарность, слитная целостность, с перевесом в сторону определенной схематизации, — особая своеобразная обобщенность, в которой частность есть только часть целостности, без собственных, индивидуальных отличий. Частное, индивидуальное, множественное субъективно; над ним главенствует субъектный мир с его целостностью, общностью и единственностью. Видимая природа и зримая действительность считаются субъектными.
С конца V в. и начала IV в. происходит слом всего древнего общества на всех его формах, в том числе и гносеологических. Чем дальше от классики, тем резче отход понятия от образа. Концепция взаимосвязи между субъектным миром и объектным меняется в корне. Между познающим лицом и познаваемым миром образуется дистанция особого рода, из которой возникает категория перспективы: предмет не просто отодвигается, но получает характер «натуры», объекта для субъекта, для его личных целей.
Образ* вытесняется понятием. Категория признака берет верх над
|
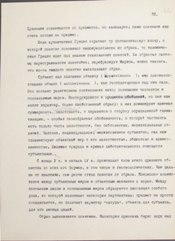 
|
|
категорией целостности, метод отвлечения — над показом воочию. Этим исторически определяется, что эпоха зрительных и пластических форм, эпоха больших обобщений, идеализаций будет сменена «рассудочным» веком понятийных исканий.
Субъектный мир выделяется как главный. Доминируют процессы отвлечения. Сознание открывает явления парциальности и видит, главным образом, все отделенное и особенное. Религия обособляется в отдельную область. Рождается независимое от нее искусство. Возникая в русле понятийности, оно носит черты искусства «холодного», «ученого», индифферентного к проблематике. Оно тоже отвлечено в особую область, отгороженную от этических или социальных вопросов. Оно противопоставлено природе, как особый субъектный мир, только подражающий объективности. И вот в этом вся, так сказать, его соль. В личном мастерстве и в выхоленной технике должен быть создан человеком особый мир, параллельный реальному; он рождается «в подражание» действительности, при полном осознании его творцов, что он субъектен и держится на искусности и искусственности.
Так возникает основная функция эллинистического искусства — иллюзорность. То, что она отражает во всей своей субъектности историческую, совершенно объективную действительность, то, что сама она порождена реалистическим и прогрессивным сознанием, — об этом никто не догадывается.
В эллинистическую эпоху происходит становление чисто-литературных жанров. Порядок их появления не может совпадать с классическим. Первыми получают литературную функцию сценические жанры, наиболее тяготеющие к иллюзионности. Они «становятся», идя прямо от народного «зрелища», мимо традиционных форм трагедии или древней комедии с их культовой природой. Возникает новая форма театра, по своей направленности близкая и балагану, но сценическая по сущест
|
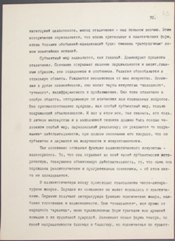 
|
|
ву; здесь актер отделен от автора и от цели, зритель отделен от актера, зрелище получает фабулистическую природу, а «действо» — функцию одного «исполнительства», которое задается единственной целью — создать иллюзию действительности. Как ни условен такой театр, но он стремится стать реалистическим.
Вместе со «зрелищем» в новое сценическое искусство входит и до-литературный комизм, семантически с ним однородный. Этот новый театр представляет собой двойную систему. Первая — образная, с переряжением, лудификацией, обманом, фокусом. Вторая — понятийная, с литературным замыслом, со зрителями, с актерами, с обобщением и каузализацией. Первая система находится внутри второй и сама составляет предмет той самой иллюзионности и того самого разыгрыванья, которые составляли ее содержание, — но разыгрыванья и иллюзии в другом смысле, в отвлеченном. Ее смысловое содержание обратилось в фабулу, обманы — в сценическую иллюзию, участники — в исполнителей и публику. Все в целом, зрелище абстрагировалось, обобщилось и отодвинулось, получило перспективу, потеряло своей субъектно-объектный «прямой» характер, и стало косвенным «предметом» изображения.
Вот эта новая познавательная метода, с ее новыми конструктивными принципами, находит свое полное выражение в новом композиционном постпоении литературной драмы. Мы ее называем интригосложением.
Предвестники новой литературной формы частично пробиваются в конце V в., а ее начало идет через IV в. к III в. Полное ее раскрытие происходит в III—II вв. в паллиате.
5.
Интрига представляет собой двойную систему. Раздвоение, подтасовки, игра мнимого и настоящего, активная роль фокусника составля
|
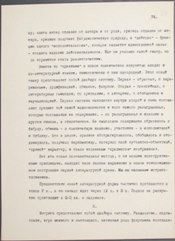 
|