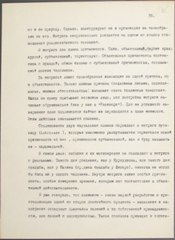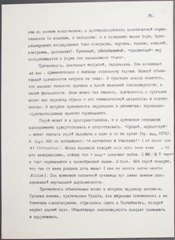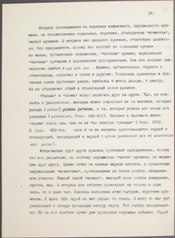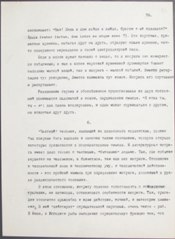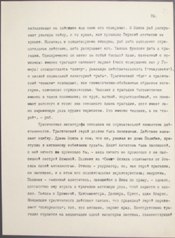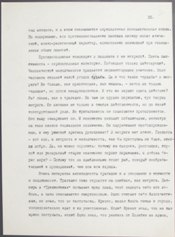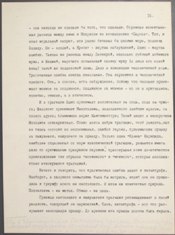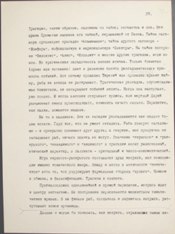Происхождение литературной интриги
Опубл.: Из научного наследия О. М. Фрейденберг : Происхождение литературной интриги / публикация Ю. М. Лотмана // Труды по знаковым системам. VI. – Тарту,1973. – С.497–512. – (Ученые записки Тартуского государственного университета; вып.308).
|
ют и ее природу. Однако конструирует ее и организует ее своеобразие не это. Интрига* непроизвольно рождается на одном из этапов становления реалистического сознания.
В интриге два плана причинности. Один, объективный, терпит крах; другой, субъективный, торжествует. Объективная причинность соотнесена с правдой; обман связан с субъективной причинностью, создаваемой ловким человеком.
За интригой лежит своеобразная концепция не одной причины, но и объективности. Только ложные причины (подложные письма, переодеванье, мнимые обстоятельства) вызывают здесь подлинные следствия. Когда на сцену прибывает истинное лицо, вся постройка интриги начинает обрушиваться (как у нас в «Ревизоре»). Для ее успешного завершения план подлинности сейчас же переводится в план мнимости. Этим действие оказывается спасено.
Столкновение двух каузальных планов порождает в интриге путаницу (intricare), которая неизменно распутывается торжеством новой причинности ad hoc, причинности субъективной, как я буду называть ее — парциальной.
В самом деле: события и их мотивировки не совпадают в интриге с реальными. Такого дня рождения, как у Куркулиона, или такого дня свадьбы, как у Казины (ср. день свадьбы у Фигаро), никогда не могло бы быть ни у одного человека. Внутри интриги лежит особая причинность, особое измерение времени, которым нет соответствия в объективной действительности.
Я уже говорила, что эллинизм — эпоха первой разработки и кристаллизации одной из сторон понятийного процесса — выделения и заострения отдельных признаков явлений в их собственной принадлежности, вне связи с целокупностью. Такое сознание приведет к тяготе
|
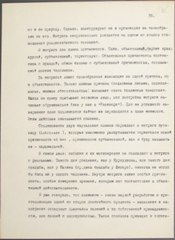 
|
|
нию ко всяким исключениям, в противоположность классической нормативности (к изыскам, к патологии) и к созиданию малых форм, функционирующих изолированно (как статуэтка, картина, сценка, эпиллий, эпиграмма, рассказик). Суженный, обособленный, «предметный» мир воспринимается в форме так называемого быта.
Причинность, двигающая интригой, парциальна. Она возникает ad hoc применительно к каждому отдельному случаю. Единой объективной причинности интрига не знает. В трагедии всегда известно, что вызовет такая-то причина в своей железной закономерности, в своей фатальности. Если можно так сказать, причинность в трагедии носит еще характер образа с его схематической цельностью и статичностью. В интриге причинность параллельна и динамична: каузально-противоположные явления суживаются.
Герой может и в пространственном, и в причинном отношении одновременно присутствовать и отсутствовать. «Прощай, здравствуй!» — может сказать герой паллиаты в одно и то же время (ср. Men. 1076). В Сарt. 993 он восклицает: «я несчастен и счастлив!» (et miser sum et fortunatus). Когда паллиата говорит nolo mihi bene esse, то это непереводимо, потому что «bene» означает побои. В MG III, 2 «нет» и «да» соуживаются в своеобразной сцене. В Сist. 604 герой говорит, что «не от жены рождена дочь жены» (non ex uxoris natam uxoris filiam). Под комизмом словесной путаницы тут лежит комизм одновременной каузальной двуплановости.
Причинность объективная носит в интриге характер автомата. Грозная Ананка, трагическая Судьба, эта образная причинность в ее божеском олицетворении, обратилась здесь в Случайность, которой вертит ловкий плут. Объективную закономерность следует сламывать и одурачивать.
|
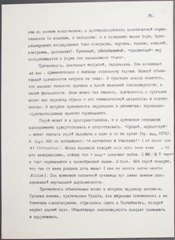 
|
|
Интрига основывается на понятиях единичного, парциального времени, на столкновениях отдельных, коротких, убыстренных «моментов», частей времени. В интриге нет цельного времени, объективно длящегося. Оно прерывается, потому что состоит из отдельных времен ad hoc, из малых, субъективно окрашенных, «частичных» времен, параллельно «частным» причинам и двуплановым пространствам. Все это создает впечатление ошибок и qui pro quo. Мнимое, субъективное борется с объективным, загоняет в тупик и дурачит. Отдельные временные и причинные планы протекают рядом*, ошибаясь и мчась дальше, к центру. Их не объединяет общий и объективный поток времени.
«Раньше» и «позже» могут налетать друг на друга. Так, не считаясь с реальностью, матерью может оказаться не та женщина, которая раньше (prior) родила ребенка, а та, которая родила его после его рождения (posterior, Тruc. 410–411). Человек в паллиате может «позже» стать тем, кем он не был никогда «раньше» (Тrin. 978). В Сist. 609 sqq. одна и та же женщина представляется первой и последующей, последующей и первой (prior posterior sit et posterior sit prior).
Исключающие друг друга времена протекают одновременно, потому что это различные, по особому окрашенные «части» времени, не мешающие друг другу. Время течет не единым мерным потоком, а приватными парциальными «моментами», протекающими на своем особом, независимом участке. Каждый такой «момент», имеющий свое особое измерение, краток, мал. В интриге все события происходят не только в один день, но в один час. Эпизоды наполнены этим быстрым, коротким временем. В Еpid. 650 герой на миг уходит со сцены. В этот-то миг раб распознает в гетере пропавшую сестру героя. Тот быстро возвращается. Но за это краткое время уже произошли огромные события. Герой
|
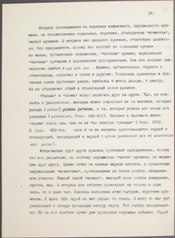 
|
|
восклицает: «Как! Лишь в дом войдя и выйдя, братом я ей сделался?» (huic frater factus, dum intro eo atque exeo?). Эти короткие, приватные времена, набегая друг на друга, образуют спазм времени, нечто совершенно нереальное в своей центровлекущей силе.
Если в эпосе время связано с вещью, то в интриге оно измеряется событиями; и как в эпосе короткий временной промежуток бывает наполнен массой вещей, так в интриге — массой событий. Вместо ретардации тут ускорение. Вместо климакса тут комок. Интрига его спутывает и распутывает.
Раздвоение героев и обособленное существование их двух состоянии понимаются паллиатой в новом, парциальном смысле. «Я стал ты, ты — я»; два плана изолированы, и один может соуживаться с другим, не исключая друг друга.
6.
«Частный» человек, выпавший из целостного коллектива, должен был впервые быть выделен и замечен таким сознанием, которое открыло категорию приватности в познавательном смысле. И литературная интрига имеет дело только с частными, «бытовыми» людьми. Там, где события вершатся не человеком, а божеством, там еще нет интриги. Отношение к человеческой воле и человеческому уму, к человеческой действенности — это пробный камень при определении интриги, возникающей в русле реалистического сознания.
В этом отношении интригу полезно сопоставлять с концепциями трагедии, ее антипода, оттеняющего особенности интриги. Так, трагедия относится враждебно к идее действия, точней, к категории движения. В ней «действует» отрицательный персонаж, очень часто — раб. В Ионе, в Ипполите рабы выполняют отрицательную функцию тем, что
|
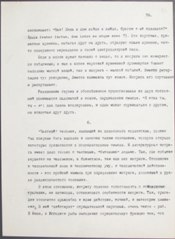 
|
|
наталкивают на действие или сами его совершают. В Эдипе раб раскрывает ужасную тайну, в то время как провидец Тирезий всячески ее хранит. Носитель и олицетворение скверны, раб, либо выполняет отрицательное действие, либо раскрывает его. Такова функция раба в трагедии. Одновременно он несет за собой бытовой план, связанный с комизмом: именно трагедия начинает первая (чего совершенно нет у Гомера) отождествлять «доксу», реальную действительность («кажущуюся») с низкой социальной категорией «раба». Трагический «быт» и трагический «комизм» совпадают, как схематически-обобщенные образные категории, одинаково отрицательные. Человек в трагедии бытовистичен именно в таком понимании; он трус, алчный, корыстолюбивый, не понимает высокого и стоит вне основного плана трагедии, хотя имеет явно выраженную* роль орудия перипетии. Это именно человек, а не «герой», — раб.
Трагическая катастрофа основана на отрицательной семантике действенности. Трагический герой должен быть пассивным. Действие вызывает ошибку. Драма Эдипа в том, что он, уезжая из дома Полибия, приступил к активному избежанию судьбы. Если б Антигона была пассивной, с ней ничего не произошло бы, — ведь ничего не произошло с ее пассивной сестрой Исменой. Полиник из «Семи» Эсхила отличается от Этеокла своей активностью. Этеокл — узурпатор, но, как герой трагедии, он пассивен, и в этом его положительная характеристика; напротив, Полиник — законный властитель, явившийся в Фивы по праву, — однако, достаточно ему играть в трагедии активную роль, чтоб вырасти в злодея. Таковы и Прометей, Клитемнестра, Деянира, Орест, даже Ксеркс. Концепция трагического действия такова, что праведный герой переживает «покорность»; тот, кто активен, терпит крах. Конструктивно трагедия строится на акцептации одной категории пассива, главенствующей
|
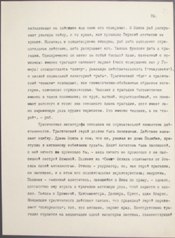 
|
|
над активом, и в этом сказывается определенная познавательная эпоха. По содержанию это противопоставление пассива активу носит этический, этико-религиозный характер, единственно возможный при становлении общих понятий.
Противоположная концепция в паллиате с ее интригой. Здесь пассивность — отрицательная категория. Побеждает только действующий. Человеческой находчивости придается первенствующее значение. Воля человека сильней какой угодно судьбы. Да и что такое «судьба» в интриге? Не больше, как препятствие, как мишень, — нечто не только «слепое», но почти неодушевленное. И кто же вершит здесь действие? Раб снова, как в трагедии. Но там он орудие перипетии, тут творец интриги. Он активен не только в смысле действенности, но по своей конструктивной роли. Из тритагониста он становится протагонистом. Всю кашу заваривает он. И неизменно выходит победителем, несмотря на свое низкое социальное положение. Он одурачивает свободнорожденных, и ему римский зритель рукоплещет! В интриге нет этики. Глупость — вот зло; а хитрость и находчивость как бы преступны ни были, всегда добро. Да, но можно спросить: почему же сводник, ростовщик, скупой или развратный старик неизменно терпит поражение, а любовь берет верх? — Потому что за влюбленными стоит раб, который изобретательней и пронырливей, чем все эти глупцы.
Очень интересна антиподность трагедии и в отношении к мнимости и подлинности. Трагедия тоже строится на ошибках, как интрига. Деянира в «Трахинянках» посылает мужу плащ, чтоб вернуть себе его любовь, а плащ оказывается смертоносным. Эдип считает себе благочестным, не зная, что он святотатец. Креонт, желая блага семье и городу, последовательно идет к их уничтожению. Если б Креонт знал, что не так нужно поступать, если б Эдип знал, что уезжать от Полибия не нужно,
|
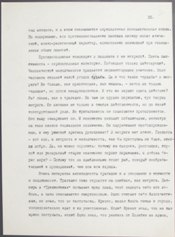 
|
|
— они никогда не сделали бы того, что сделали. Огромная качественная разница между ними и Ксерксом из эсхиловских «Персов». Тот, и зная моральный запрет, все равно бичевал бы цепями море, полонял Элладу. Он — злодей, а Креонт — жертва заблуждений, Эдип — жертва ошибки. Такова же разница между Деянирой, невольно губящей любимого мужа, и Медеей, нарочито посылающей своему мужу (в лице его новой жены) такой же колдовской плащ. Дело в концепции человеческой воли. Трагическая ошибка всегда невольная. Она коренится в человеческой слепоте. Она, в основе, есть заблуждение, потому что человек принимает мнимое за подлинное, подлинное за мнимое — но не в зрительном, конечно, смысле, а в этическом.
И в трагедии Эдип принимает воспитателя за отца, отца за чужого; Филоктет принимает Неоптолема, подосланного злейшим врагом, за своего друга; Агамемнон верит Клитемнестре; Тезей видит в непорочном Ипполите осквернителя. Стоит взять любую трагедию, чтоб увидеть, как ее ткань состоит из непониманья, ошибок героев, принимавших правду за кажущееся, кажущееся за правду. Только одна «Елена» Еврипида, наиболее отдаленная* от норм классической трагедии1, решается иметь дело со зрительным признаком героини, приоткрывая этим до-этическое происхождение тех образов «истинного» и «мнимого», которые впоследствии этизируются трагедией.
Нечего говорить, что трагическая ошибка ведет к катастрофе. Наоборот, в паллиате немыслима была бы интрига, если б она не приводила к триумфу всего не настоящего. В этом ее комическая природа. Подтасовка — ее метод. Обман — ее цель.
Границы настоящего и кажущегося трагедия устанавливает в своей развязке, следующей за перипетией. Словом, катастрофа — вот что раскрывает запоздалую правду. До времени эта правда должна быть скрыта.
1 Ср. в Еврипидовских Вакханках призрак Диониса (при рождении бога) и обманный вид: Дионис переодет человеком и выдает себя не за себя.
|
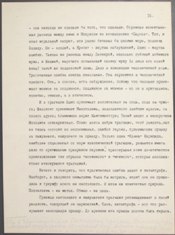 
|
|
Трагедия, таким образом, заложена на тайне; загадочна и она. Вся драма Прометея вызвана ее тайной, скрываемой от Зевса. Тайна заговора организует трагедию «Агамемнон»; тайна другого заговора — «Хоэфоры», софокловскую и еврипидовскую «Электры». На тайне построен «Филоктет», «Аякс», «Ипполит» и многие другие трагедии, если не все. Но трагическая загадочность высоко этична. Только божество (прямо или косвенно) дает в развязке понять разгадывательную сущность событий. Вот почему провидец Тирезий или провидец Прометей хранят тайну, рабы же всегда ее раскрывают. Трагическая разгадка, осуществляемая божеством, не возвращает событий вспять. Когда она наступает, уже поздно. И когда вестник открывает кулисы, или мертвый Дарий разъясняет смысл происходящего, изменить ничего нельзя Перипетия, как палка, ломается надвое.
Не то в паллиате. Все ее загадки разгадываются как нельзя более кстати. Глуп тот, кто не умеет отгадать. Рабы говорят загадками — и прекрасно понимают друг друга; а старики, как прозрачно ни загадывает раб, ничего понять не могут. Значение «скрытого» и «раскрытого», «невидимого» и «видимого» в трагедии носит религиозный, этический характер, в паллиате — зрительный и чисто-энигматический.
Игра скрытого-раскрытого составляет душу интриги, как композиции именно комического жанра. Всюду и везде в античности «комическое» есть то, что узурпирует формальные стороны «сущего». Комизм в обмане, в фальсификации. Трагизм в слепоте.
Противоположно однолинейной и прямой перипетии, интрига идет к центру зигзагами. Ее построение пересекается множеством тематических кривых. В ее финале раб, создатель и вершитель интриги, распутывает комок путаницы.
Дальше я могла бы показать, как интрига, отражавшая самые ак
|
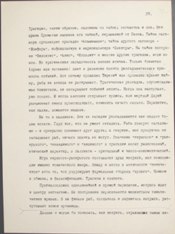 
|