Происхождение пародии
Опубл.: Происхождение пародии / О. М. Фрейденберг; публ. Ю. М. Лотмана // Труды по знаковым системам. 6. – Тарту, 1973. – С. 490–497.
В прим.* указаны страницы публикации
|
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПАРОДИИ1*
1.
Мы все хорошо знаем, что пародией называется подражание, при котором величественная форма наполняется ничтожным содержанием. Пародия есть имитация возвышенного посредством жалкого, несоответствие содержания и формы, передразниванье, перевод с трагического на комическое. Мы все это хорошо знаем.
Однако Батрахомиомахия, с ее школьной убедительностью, остается Батрахомиомахией: здесь пародия на эпос и замена великих страстей и великих героев мышиными и лягушачьими — наглядна комическим замыслом. Здесь, повторяю, дело обстоит благополучно. Ведь в литературе любое явление мы привыкли объяснять умыслом автора и изобретательностью его фантазии. Наука имеет зато и такую область, где критерий ее резко меняется и где позволено вводить методы более объективные: это область обряда. Как в «словесах» мы не имеем права выходить за пределы авторской фантазии, так в практике обряда мы, напротив, обязываемся усматривать какое-то оторванное от «словес» явление, с подпочвой психики безличной. Этой насильственной свободой я хочу воспользоваться. И тогда поставлю вопрос так: чем объясняется наличие в обряде пародийного начала, если обряд не творится случайной волей отдельного автора, и если природа его — комическое передразниванье возвышенного?
2.
Я пробегаю мысленно некоторые средневековые обряды, приходящие мне на память. Конечно, прежде всего вспоминается самое изумительное и самое необъяснимое: это знаменитые пародии на
1 Черновик моей первой опубликованной статьи (под названием «Идея пародии» в машинописном сборнике в честь С. А. Жебелева в 1926 г.). Ей предшествовал этюд еще в 1925 г. «Смех комедии», который я зачитывала студенткой в семинарии у проф. Жебелева
|
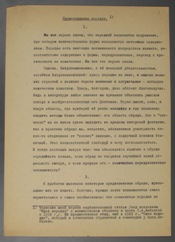 
|
|
церковные службы, на литургии. В самом деле, что скажем мы на церковное подражание, в церковной обстановке, истории Девы Марии, где главное действующее лицо — осел, где роль богородицы исполняет подвыпившая девица? Можем ли мы понять или можем ли мы забыть фантастическую процессию оборванцев, которые вводили с большой церемонией осла, покрытого золотым облачением, в церковь, переодевали его в богатые ризы и производили над ним торжественное богослужение? Можем ли мы объяснить поведение главного духовенства, которое пело при этом славословия и подражало ослиному рычанию? Или что скажем мы про церковную пародию бегства девы Марии в Египет, в которой принимало участие опять-таки все духовенство? Про триумфальный въезд* в храм веселой девицы на осле? Сопровождаемая огромной толпой и всем духовенством, она торжественно продвигалась по городу, пока не доходила до церкви, где ее и осла триумфально вводили в храм и ставили у алтаря. Происходило пышное богослужение; в интервалах певцы и вся публика утоляли свою жажду кормили и поили осла). После литургии все смешивались, танцевали вокруг осла, и вскоре бурное веселье переходило в разгул. Один из участников, переодетый и названный епископом, садился на осла, лицом к хвосту, и при веселых шутках толпы ездил по городу, принимая хлеб и пиво. Конец — веселая и буйная процессия с факелами и импровизация непристойных фарсов (Frazer, 335 s.1). Создается празднество La mère folle, во время которого на осле едет по городу мужчина, лицом назад, среди маскированной, фантастически одетой толпы, — а жена дает ему пощечины и бьет его (L'origine des masques, par C. Noirot, 1609, Соllесt. de Leber, t. IX2). Рядом создаются и sotties, комедии-фарсы, уже изгнанные из церкви, все с тем же характером веселой сатиры, маскарада и бесчинства.
1См. Frazer, Scapegoat, 1913
2См. Noirot, 1838
|
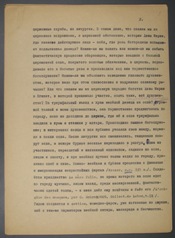 
|
|
Избирается prince des sots, которому привешиваются ослиные уши, и он триумфально шествует на осле (Petit de Julleville, Les comédiens en France au Moyen Age, 18851). Что мы скажем на все это? Чем объясним выступление осла в роли господа, литургию, переведенную на язык буффонады и фарса, храмовую обстановку для гуляк и грязного животного? Перед нами пародия не столько на литургию, сколько на самого бога. И кто же пародирует его, при соучастии всего высшего духовенства? — Осел. Положительно, это такого рода шутка, каких не перенес бы ни один современный смертный!
3.
И, однако же, их охотно и благоговейно выносили именно высшие представители церкви и власти. Мало того: глумление над божеством происходило во дни больших религиозных праздников и было приурочено преимущественно к Рождеству, к Богородицыным дням, к Пасхе: кому оно предназначалось, понятно. Но есть и целый ряд других обрядов, где мы встречаемся с пародией на высших иерархов церкви, как своего рода пародией на то же божество в лице его служителей. Безнаказанно мальчишка имитирует епископа, облачаясь в епископское одеяние и в его митру, служит за епископа мессу и в компании себе подобных дефилирует по городу, пародируя и церковную процессию (Disraeli, 261)2. Или праздник в старинной Франции «пьяных диаконов»? Или выборы «аббата дураков», «папы глупцов», даже «папы шутов», чью процессию среди воров и пьяниц так исторично описал Виктор Гюго в III главе Notre Dame de Paris3?
Не забудем, что все эти пародии на богослужения, которые назывались sotties, вышли из самой церкви и, когда были изгнаны оттуда, уже так и сохранили за собой право насмешки над всем священным:
1См. Petit de Julleville, 1885.
2См. Disraeli, 1817. Vol. 2; 1849. P. 287.
3См. Гюго, 1988. Кн. 2, гл. 3 : Besos para golpes. С. 215–216.
|
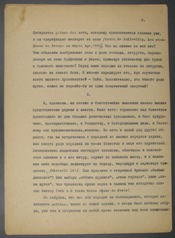 
|
|
их участники носили титулатуру духовенства, и ни один иерарх не был пощажен (Petit de Julleville, Les comédiens en France au Moyen Age, 1885, 30, 37, 40, 248; Gaston Paris, La Littér. fr. au M. Age, 282 s. 1).
Итак, пародия на бога? На высших священнослужителей? В стенах церкви? При этом же духовенстве, как исполнителе и попустителе? — Но в таком случае, не идея же имитации или передразниванья перед нами и, во всяком случае, не плод фантазии какого-то веселого автора. 4.
В средневековых английских училищах правоведения молодые студенты и представители уже изученного права открыто разыгрывают на рождественских каникулах шутовской парламент, шутовской суд, шутовское тюремное заключение (Disraeli, 264) 2.
Пойдем * дальше. Вот пародии на высших сановников, на правителей, вот пародируемый двор, вот народное представительство и юрисдикция и все это в действенном комическом изображении, с соблюдением всех форм и всей серьезности (Disraeli, 2 64–265) 3. Удивительное дело! Их никто не арестовывает, этих дерзких насмешников-лицедеев, но напротив, в исторические эпохи монархии и церковной власти такие затеи освящаются традиционным попустительством, даже поощрением и любовью именно монархов, именно двора и юристов (ор. сit. 272) 4. И дело еще более удивительное — пародии эти на высшую правительственную и государственную власть устойчиво прикрепляются к празднованию самых больших праздников. Как раз в праздник представляются пародии на священное: архаическая связь пародии с самим священным выясняется наглядно.
1См. Petit de Julleville, 1885; Paris Gaston, 1888, но проверить страницы!!! 282 – это, видимо, ошибка, там уже нет текста, только именной указатель.
2См. Disraeli, 1817; 1849. P. 289.
3Op. cit.; 1849. P. 289–292.
4Op. cit. 1849. P. 296–297.
|
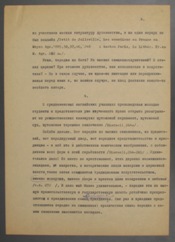 
|
|
В самом деле, заподозренная таким образом пародия начинает совершенно по-новому освещать себя. Теперь я вспоминаю свадьбы — все эти бесконечные свадьбы, которые встречаются в фольклоре всего мира с окаменелым мотивом «метаморфоза»: он любит ее и она его, но на свадьбе происходит подтасовка, переодеванье и подмена, и зритель присутствует при свадьбе обманной, с подставным персонажем и мнимым венчанием. Мнимая свадьба! Участники, всерьез разыгрывающие свадебный обряд, не жених и не невеста! Вся средневековая литература полна таких сюжетов, покоящихся на обряде. Или что такое разыгрываемые похороны, где нет покойника, а присутствуют одни участники обряда, одетые в траурное платье и омытые слезами? Возьмите Боккаччио, фаблио, 1001 ночь, Семь мудрецов — вы поразитесь этой нелепой, казалось бы, игре, этой симуляции смерти, воспроизводимой с полной точностью всех форм и с открытым отсутствием содержания. Я напомню старинный английский миракль, где дается симуляция рождения: женщина стонет в постели притворно, молодой ягненок завернут в пеленки и блеяньем имитирует новорожденное дитя, муж обманно качает его и успокаивает, — и вся эта сцена, с полным соблюдением бытовых форм и с сознательной нарочитостью обмана, связывается с рождеством Христовым и появлением рождественских пастухов (т. н. коллекция Towneley1; о ней можно прочесть в Jahrb. f. Rom. u. En. Lit., 1859, I2). Но я уже не на это обращаю внимание, а на следующее: если дается сознательная симуляция, если перед нами полнота священных или узаконенных форм с мнимым содержанием, то не та же ли пародия в этих обрядах и сюжетах, что и в Батрахомиомахии? Литургические напевы на вздорный набор слов, служба над ослом, похороны без покойника, свадьба без брачующихся, роды без новорожденного — это та же Батрахомиомахия, где
1Таунлейские мистерии.
2 См. Ebert, 1859.
|
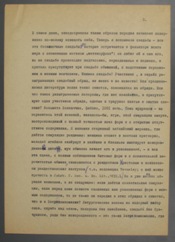 
|
|
дана известная строго узаконенная форма и полное отсутствие соответствующего ей содержания.
5.
А в античности? — Перед нами одно и то же явление, настолько архаическое, что античность в нем не моложе средневековья. Я приведу для примера только две пародии: на царей и на царский въезд. Во втором случае я предлагаю вспомнить римские шутовские триумфы, как например, описанный Светонием, или же пародийно-фарсовое начало в серьезных триумфах полководцев и императоров, описанных им же1. О пародии на царя свидетельства гораздо древнее: для Вавилона, Персии, Иудеи, Рима и Греции давно установлены празднества шутовских царей, которые набирались в священные дни из преступников, переодевались в царское платье; им предоставляли пользоваться царским гаремом и царской властью, а затем раздевали их, бичевали и вешали или изгоняли. В их насмешливом триумфе, в их победоносном шествии по городу под эскортом высшей власти и всего населения перед нами пародия на въезд царей-победителей, на божество и на священную особу царя.
Но вот перед нами древняя аттическая комедия. На нее принято смотреть как на политическую и в произведениях Аристофана видеть сатиру на власть*. Но меня бесконечно изумляет в Аристофане именно его безбожие, которое открыто издевается над всеми формами религии и власти. Если мы возьмем его отношение к Зевсу, к Посейдону, к Дионису, к Гермесу, мы не сможем понять его, объясняя одной античной смелостью мысли. Необходимо обратить внимание на то, что Аристофан оставляет неприкосновенной величественную форму и только лишает ее содержания. Возьмите в «Птицах» предание
См. Светоний, 1993.
|
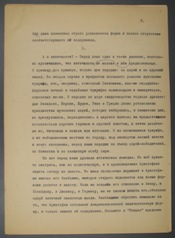 
|
|
о царстве птиц, отлитое в торжественную форму и дающее ничтожный комический сюжет (688 ss): перед нами пародия на теогонию, которая, сама по себе, есть жанр священный. Или вспомните у Аристофана многочисленные пародии молитв, пэанов, священных гимнов, обрядовых песен и действ; примерно – хоры земледельцев в «Мире», заключительные Гименеи там же и в «Птицах», инвокации в «Лягушках», величественные призывы Зевса в «Облаках», обряды и песенки в честь Диониса в «Ахарнянах» и т. д.
Здесь зачастую улыбка присутствует только в том, что авторство принадлежит Аристофану, да что уста, играющие ею, покрыты комической маской. Эти места возвышенной лирики, целиком перенесенные из богослужебного обихода, представляют собой драгоценное указание на былую природу пародии. Она была заложена не на шутке или подражании, а на смежности с возвышенным. Так, ничего нет смешного в хоре облаков (275 ss; 299 ss) или в пэане Тесмофорий (295 ss); подражанием я не решилась бы называть те многочисленные священные хоры и отдельные отрывки священного характера, которые так часто берутся Аристофаном в нетронутом виде. Их комизм только в их «местоположении», в несоответствии высокого содержания и ничтожного окружения. Здесь не одна форма пародируется, как в «Батрахомиомахии» или средневековых литургиях: содержанию оставляется вся его величавость, без каких-либо «житейских» привнесений. Особенно показательна (и в ином объяснении непонятна) вся сцена празднования Тесмофорий. Перед нами, не больше-не меньше, как воспроизведение мистерий. Женщина-глашатай поет пэан, которому предшествует обрядовый возглас и величественная молитва Тесмофорам, Деметре и Коре, Плутосу, Каллигене и Куротрофе Земле, Гер
|
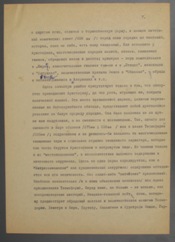 
|
|
месу и Харитам — строгая молитва строгим богам, богам не шутки, а смерти. (295 ss). Хор молящихся женщин отвечает священными славословиями (312 ss). Вступает снова женщина-глашатай с молитвами богам и богиням светлым (322 ss). Только в ту часть молитвы, которая касается человеческих отношений, вносится содержание пародийное (334–352), но при соблюдении все той же сакральной формы. Участницы таинств отвечают хоровыми молитвословиями (352 ss), — и тогда глашатай открывает торжественной формулой женское собрание (372 ss). Пародия на священную службу окончена, начинается пародия на общественность.
Но излюбленные Аристофаном пародийные изображения суда и народного собрания, — не та же ли это пародия средневековья на парламент, суд, двор? И нелепая свадьба жалкого человека с дочерью Зевса, свадьба, на которой поется Гименей в честь священного брака Зевса и Геры, или пародийная свадьба богини мира не перекидывает ли мост к свадебным обрядам античности и средневековья, где в строгие формы венчанья вкладывалось мнимое содержание? Конечно же — пародии у Аристофана священных сказаний, молитв и богослужебных обрядов — это полная параллель к средневековым пародиям-литургиям и пародиям-сюжетам, при общем пародировании всех бытовых узаконений и, в первую очередь, власти.
6.
Наблюдение над образцами пародии показывает, что связь ее с религиозными обрядами и словесами или ее приуроченье к религиозным праздникам не случайна: первоначально пародировалось именно все самое священное — боги и культ, и перенесение пародии на
|
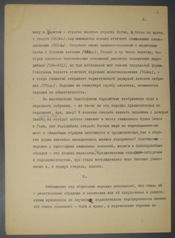 
|