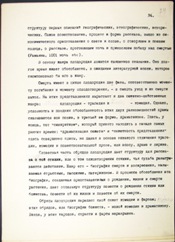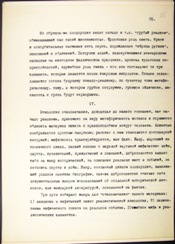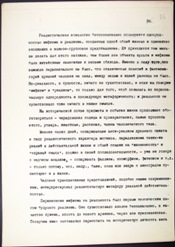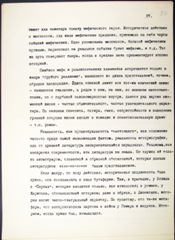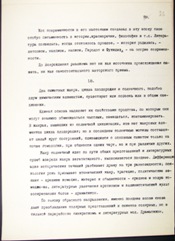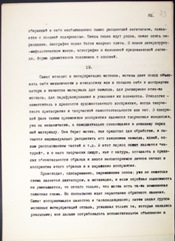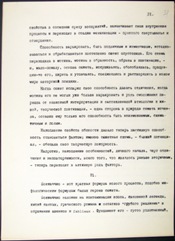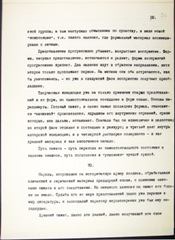Система литературного сюжета
Машинопись конца 40-х гг.
Опубл.: Система литературного сюжета / О. М. Фрейденберг; подгот. текста Н. В. Брагинской // Монтаж: Литература. Искусство. Театр. Кино. – М.: Наука, 1988. – С. 216–237.
См. также: Брагинская Н. В. О работе О. М. Фрейденберг «Система литературного сюжета» // Тыняновский сборник. Вторые Тыняновские чтения. – Рига, 1986. – С. 272–283.
|
структуру первых описаний географических, этнографических, исторических. Самое повествование, процесс и форма рассказа вышли из синонимического представления о свете и слове, о говорящем и поющем солнце, о рассказе, прогоняющем ночь и приносящем победу над смертью (Рамаяна, 1001 ночь etc.).
В основу жанра плодородия ложится священное сказание. Оно долгое время живет обособленно в ожидании литературной эпохи, которая скомпоновала бы его в жанр.
Смерть имеет в цикле плодородия две фазы соответственно моменту погибания и моменту оплодотворения – в смерть уход и* из смерти выход. На этих представлениях вырастают и два сюжетно-действенных жанра: κάθοδος плодородия – трагедия и ἄνοδος – комедия1.
Однако условность и поздняя обособленность этих двух разновидностей драмы сказывается еще позже, в третьей ее форме – драматиконе. Здесь, у конца, тот «синкретизм», который принято находить в начале самых ранних времен: «драматизация сюжета» и «сюжетность представления» здесь совершенно слиты, не давая в основе никакого отличения трагедии, комедии и повествовательной прозе или эпосу, драме и лирике.
Словесная часть обрядов плодородия дает структуру для рассказа о той стихии или о том олицетворении стихии, чья судьба разыгрывается действием. Жанр его – биография смерти и воскресения, называемая страстями, пассиями, патериконом. В процессе обособления эта биография, созданная представлениями о рождении, жизни и смерти растения, дает отдельную структуру повести о рождении стихии или божества, повести об их жизни и повести об их смерти.
Обряды плодородия передают свой сюжет комедии и фарсам, λεγόμενα этих обрядов, или биографии божеств, – новой комедии и драматикону. Везде, у всех народов, страсти и фарсы неразрывны.
1 «Нисхождение» или «гибель» (плодородия) и «восхождение» или «появление» (плодородия) (греч.).
|
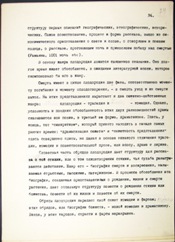 
|
|
Из обрядов же плодородия ведет начало и так называемый «грубый реализм», обманывающий нас своей жизненностью. Культовая роль смеха, брани и оскорбительных насмешек есть зерно, порождающее «обряды ругани», поношений и обличений. Поступки людей, подвергающиеся всенародным нападкам на ежегодном фаллическом празднике, арсенал культовых непристойностей, служебная роль смеха – это все составляет те три элемента, которые делаются новым жанровым импульсом. Отныне закладывается основа будущему псевдореализму, по существу тоже метафорическому, тому, в котором грубое остроумие, громкое обличение, веселость и грязь будут неразрывны.
17
Этиология очеловечения, доходящая до нашего сознания как начало реализма, принимает на веру метафоричность мотивов и стремится сблизить материал сюжета с правдоподобием вокруг человека. Божество изображается простым смертным; рассказ о нем становится достоверной историей; мифичность транскрибируется как факт. Жанр, выросший из солнечного цикла, давший эпопею с широкой картиной мифических войн, царств, путешествий, приключений и описаний, добросовестно выдает себя за жанр исторический, за описания реальных мест и событий, за летопись царств и войн. Жанр, созданный циклом плодородия, выделивший родовое понятие биографии, также добросовестно считает себя документальным* жанром исследований об отдельной исторической личности, или мемуарной литературой, основанной на фактах.
Три пути избирают жанры для «очеловечения» своего материала: 1) введение в мифический сюжет реалистической этиологии, 2) перенесение мифического сюжета на реальное событие, 3) симбиоз мифа и реалистических элементов.
|
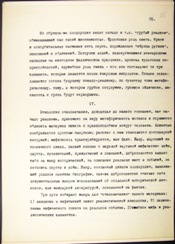 
|
|
Реалистическая этиология бессознательно пользуется однородностью мифизма и реализма, созданных одной общей жизнью и одинаково входивших в единое групповое представление. Ей приходится тем меньше делать для этого натяжек, чем более все объекты культа и мифизма были житейскими явлениями и вещами обихода. Именно в силу того, что вымысла первоначально не было, что отвлеченных понятий и фантасмагорий древний человек не знал, между вещью и идеей разницы не было. Не-реального, в сущности, ничего не существовало, и если мы говорим «мифизм» и «реализм», то только для того, чтоб показать их первоначальную однородность и последующую метафоричность: и реального не существовало тоже ничего в нашем смысле.
На исторической почве предметы и события жизни продолжают обоготворяться – чередования солнца и произрастания, самые процессы этого, утварь, животные, растения, члены человеческого тела.
Мнение наших дней, оспаривающее анти-реализм древнего сюжета в силу реалистического характера мотивов, параллелизма таких же реалий в действительной жизни и общей ссылки на «жизненность» и «здравый смысл», должно в своей последовательности – уже не говоря о научном анализе – оспаривать фаллизм, зооморфизм, фетишизм и т. п. только потому, что, например, быки, ослы или ведра с виноградом существуют и в жизни.
Человек транслативных представлений, подобно нашим современникам, интерпретировал реалистическую метафору реальной действительностью.
Перенесение мифизма на реальность было первым техническим шагом будущего реализма. Оно существовало вполне безнаказанно в качестве приема вплоть до нового времени через все средневековье. Созвучие имен заставляло переносить на историческую личность весь
|
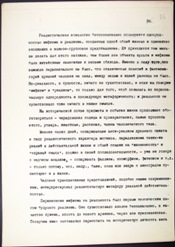 
|
|
сюжет или сюжетную топику мифического героя. Историческое действие в местности, где жили мифические предания, принимало на себя черты событий мифических. Одно упоминание местности, богатой мифическим прошлым, переносило на реальное событие букет мифизма, и т. д. Тот же путь совершают жанры, когда в средние века орнаментируют эпопею историей.
Симбиоз мифа и реалистических элементов встречается только в жанре «грубого реализма», вышедшего из цикла представлений, точнее, обрядов плодородия. Здесь основой лежит все тот же эпический сюжет – священное сказание, а рядом с ним, на нем, во внешнем несоответствии, но с глубокой закономерностью внутри, дает ряд картин низменной жизни – частью обличительного, частью увеселительного характера. По законам генезиса сатира, смех*, непристойности и выведение грязной стороны жизни входят в комедию и повествовательную драму – так называемый роман.
Реальность как процессуальность «настоящего», как отложение чего-то среди самой механизации фактов, реальность историографии, шла от древней литературы непересекающейся параллелью. Реализма как внедрения современности эта литература не знала. Он служил ей только аксессуаром, словесной и образной обстановкой, которая давала литературное mise-en-scene былым представлениям.
Если жанру, по ходу действия, историческая подлинность была нужна, она создавалась в виде бутафории. Так, в трагедии, у Эсхила в «Персах», история вводится только как этиология; в романе у Харитона, обстановочный историзм; даже в обряде, в Дионисиях история носит чисто театральный характер. По существу, это та же метафора, что воспроизводила царства и войны у Гомера и индусов. Историзм, когда нужен был, измышлялся.
|
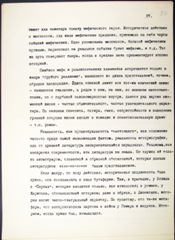 
|
|
Ход современности в его настоящем создавал в эту эпоху свою особую письменность в истории, красноречии, философии и т. д. Литература появилась, когда отстоялось прошлое, история родилась – летописи, надписи, записи, Геродот и Фукидид – на острие современности.
До Возрождения реализма нет ни как источника происхождения сюжета, ни как самостоятельного авторского приема.
18
Два сюжетных жанра, цикла плодородия и солнечного, подобно двум химическим элементам, существуют или порознь, или в общем соединении.
Единая основа наделяет их свойствами сродства, по которым они могут взаимно обмениваться частями, замещаться, контаминировать. В жанрах, вышедших из солнечной циклизации, еще нет жанровых элементов цикла плодородия, но в последнем солнечные мотивы составляют целый круг построений, сливающихся с основным сюжетом только на почве гомологии, при общности одних черт, но и при различии других.
Жанр солнечный идет по пути общих представлений и литературных судеб впереди жанра вегетативного, выделившегося позднее. Дифференциация исторических течений разбивает драму на четыре разновидности: психология рока призывает хтонический жанр, трагедию; политические веяния – древнюю комедию; интерес к обыденности – среднюю и новую комедии же; литературные увлечения эротизмом и эллинистический культ воскрешающих богов – драматикон.
По закону обратного направления именно поздние эпохи снова дают преобладание солярных представлений и сюжетов солярных, но в сильной переработке синкретизма и литературных мод. Драматикон,
|
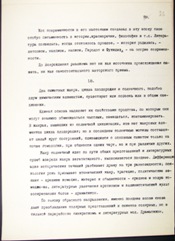 
|
|
вбирающий в себя необыкновенно пышно расцветший вегетатизм, сливается с поздней солярностью. Циклы снова идут рядом*, сюжет опять не разделен. Биографии новых богов жанрово слиты. В новом литературно-мифологическом жанре, агиографии и священной средневековой легенде, форма драматикона соединена с эпопеей.
19
Сюжет исходит в интерпретацию мотивов, мотивы дают повод объяснять себя механически в этиологиях или в посылке себя к восприятию автора в качестве материала для замысла, для расширения этих же мотивов, для парафразирования и усиления их элементов. Этиология – заместитель в древности художественного восприятия, когда творческого претворения и творческой самостоятельности еще нет. В следующей фазе таким приемником восприятия является творческая концепция, уже не механически, а самодеятельно относящаяся к лежащему перед ней материалу. Она берет мотив как средство для обработки и пытается индивидуально расцветить его введением замысла, идеей, новым расположением частей и т. д. В этот период сюжет является «натурой» и с него творчески пишут, как с натуры, оставаясь в пределах обязательности образца и внося неповторяемое личное начало в восприятие этого образца и в выражение восприятия.
Происходит, одновременно, перемежение основ: уже не сюжетная схема является диктатором, а мотивация, и если стройная зависимость не уменьшается, то оттого только, что мотив есть та же измененная сюжетная схема. Но постепенно идет нарастание обратного явления. Сюжет воспринимался целостно и безапелляционно; затем целая группа мотивных интерпретаций отпала, усиливая только те, которые казались реальными, еще дальше потребовалось вспомогательное объяснение и
|
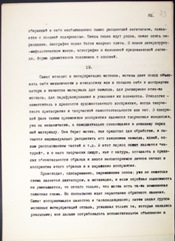 
|
|
Этой группы; а там наступило осмысление по существу, в виде новой «композиции», т. е. такого явления, где формальный материал ассимилирован с личным.
Представление прогрессивно убывает, возрастает восприятие. Форма, несущая представление, истончается и редеет; форма восприятий прогрессивно крепнет. Два явления идут в обратном направлении, хотя второе только продолжает первое. На мотиве они оба встречаются, как бы уничтожаясь, – но уже в следующей фазе восприятия получает преобладание.
Творческая концепция уже не только приемник старых представлений и их форм, но самостоятельное созидание и форм новых. Основы передвинуты. Готовый сюжет, в своих самых последних формах, становится «начинкой» произведения, ядрышком его внутренних строений, среди которых, еще дальше, истаивает. Сначала он был единоличен и целостен: во второй фазе отделен и поставлен в ракурс; в третьей взят внутрь авторской концепции и в четвертой растворен совершенно – и как древний материал, и как эксогенное начало.
Путь сюжета – путь перехода из самостоятельного состояния в явление смежное, путь поглощения и «усвоения» чуждой средой.
20*
Народы, вступившие на историческую арену позднее, обрабатывали эпический и лирический материал предыдущей эпохи с прежними законами сюжета и его следствиями. Но никакого влияния на сюжет это больше не имело. Судьбы его из мира представлений давно уже перешли в мир литературы, и запоздалый характер мировоззрения уже был ему неподсуден.
Древний сюжет, давно все давший, давно излучивший все свои
|
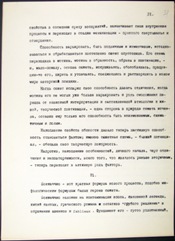 
|
|
свойства в соседнюю среду восприятий, заканчивает свои внутренние процессы и переходит в стадию механизации – простого свертывания и отвердения.
Способность варьировать, быть подвижным и изменчивым, истолковываться и обрабатываться постепенно сюжет опустошила. Его схема переходила в мотивы, мотивы – в образность, образы – в поэтизацию, и, мало-помалу, основа сюжета, иссушиваясь, обособлялась, продукции же его, ширясь и утончаясь, соединялись и растворялись в новом мире авторской психики.
Когда сюжет испарил свою способность давать отличения, когда мотивы его не могли уже больше варьировать и роль омоложения перешла от зависимой интерпретации и застекленелой этиологии к живой, творческой поэтизации, – одна сторона в природе сюжета исчезла, оставив ему только его способность быть неизменяемым, схематичным и полым.
Накопление свойств общности давало теперь пассивную способность становиться фактом; именно сюжетная схема – бывший потенциал – обещала свою творческую покорность.
Напротив, накопление особенностей, личного начала, черт отличения и неповторяемости, всего того, что являлось раньше вторичным, – теперь переходит в активную роль фактора.
21
Боккаччио – вот краткая формула нового процесса, подобно мифологическим формулам былых героев сюжета.
Боккаччио заложен в контаминации эпоса, священной легенды, житий святых, греческого романа и остатков «грубого реализма» в отражении шванков и fabliaux. Фундамент его – густо уплотненный,
|
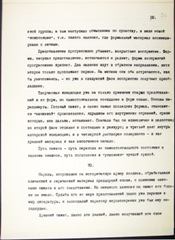 
|