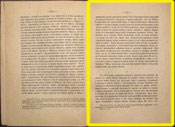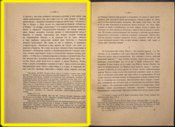|
ненавистник* людей, ищущий их смерти1. Но если в первом образе перед нами он «даятель богатства», «плутодот», и «крупно-дарящий», как сам Плутос, и пиролюбец, как евангельский богач, то образ второй рисует Тимона бездомным и голодным нищим, который питается убогими злаками земли, точно Лазарь крохами со стола. Но вот Тимон разбогател вновь: подобно богачу Луки, он ничего не уделяет никому, и вновь сливается с образом Лазаря, когда тот в блаженной смерти грубо отталкивает просящего богача. Любопытно, что у Лукиана Тимон выкапывает золото из земли мотыкой* : в то время, как миф еще ставит знак семантического равенства между подземными дарами, между металлом и злаком, и дает образ наглядного питания из земли – Тимон Лукиана представляет собою «богача» в современном понятии, проникнутого ожесточенной классовой ненавистью, богача денежного, развивающего денежную мораль и денежные добродетели. Еще одна деталь, которая нам уже встречалась, получает у Лукиана настойчивость: это то, что Тимон-нищий живет в уединенной скалистой местности и роет мотыкой каменистую землю на скале. Значит, скала опять. Но вот то, что мы знаем о смерти Тимона: он умирает, похороненный у моря, и высокое место берега, размытое волнами, делает его могилу недоступной для смертных2. Итак, снова море, снова высокий суровый обрыв; и там, среди морских волн, тело нищего богача.
5
Так, быть может, набраться смелости и прочесть миф дословно, на языках тех самых образов, которыми он говорит? Тогда окажется, что у нашего нищего богача две биографии: одна – сюжетная, остающаяся в тематике и фабуле; другая – метафорическая, которая неизменно присутствует в обстановке и месте действия. По одной, он нищий, становящийся богатым и теряющий богатство; по другой, он связан со скалой, с морем и крутизной. Там он живет, там его мертвое тело: там он в жизни и в смерти. Но там мы его видим лишь на миг, эпизодически, перед падением вниз. И семантическое тождество двух различных мотивов разъясняет себя, когда на этом же месте, в миг перед падением, мы застаем еще одного фольклорного «старого нищего слепца», Эдипа. Его утес – это
1 Plut. Ant., 69–70; Luc. Tim. 36, 41. Если исторический Тимон существовал, на его биографию были перенесены черты Плутоса-Тимона.
2 Plut., o.c., 70.
|
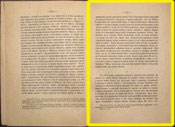 
|
|
низвергающийся* путь смерти, крутизна, ведущая в мрачную обитель преисподней. Таков конец Эдипа. Из царя он стал немощным и бездомным нищим, старым бессильным слепцом, умирающим внезапно, исчезающим с обрывистого утеса. «Когда он достиг низвергающегося пути, укрепленнога из земли медными ступенями» – говорится о нем1, тогда он исчез также таинственно, как исчезал Глостер в мистификации Эдгара. Ибо дальше: «когда мы отошли» – вещает вестник – «и спустя некоторое время оглянулись, мы увидели, что Эдипа уже больше не было нигде»2. Значит, вся разница между Эдипом и позднейшими слепцами в том, что он упал действительно… нет, именно в том, что он не падал. Высокое уединенное место – здесь крутизна смерти, исчезновение с него – смерть, распростертое у ног пространство – преисподняя, вскрытая земля, ведущая кверху медные ступени3. Стоит ли наверху Эдгар в образе дьявола, дьявол ли тащит душу пиролюбца вниз, а Люцифер в преисподнюю злого богача (un movais riche), или испанский Лазарь, Ласаро, толкает нищего слепца – метафора здесь одна и та же: их падение – это их смерть, их свержение – это их смерть. И самые наши герои, стоящие у края срывов, живущие на скалах, свергаемые с утесов – метафорные изображения смерти, олицетворения и персонификация ее самой. Эдип, из-за которого упал в море с крутого утеса Сфинкс, или наш Плутос – они могли и не падать, а оставаться на обрывах скал, как дьявол – Эдгар; но они некогда стояли на краю срывов и свергались оттуда в воду, олицетворяя собою смерть. Вот почему волны с плеском ударяли о неприступный берег могилы Тимона и в унылом одиночестве торчал из моря утес.
6
И как повсеместен наш фольклорный мотив, так повсеместен и его параллельный обряд. Мы знаем из международного обихода, что в определенное время года со скалы или вообще с высокого места сбрасывали
1 Soph. Оеd. Соl., 1590 sq. Этот мотив об Эдипе ср. с мотивом о кровосмесителе св. Григории, который и сам рожден в кровосмесительстве. Он искупает свой грех, живя в скованном состоянии, на одиноком утесе. Этот подвиг приносит ему папский сан и канонизацию. Его судьба воспевается знаменитым миннезингером Гартманном фон Ауэ. Мотив св. Григория встречается в фольклоре чуть ли не всей Зап. Европы.
2 Soph., о. с., 1649.
3 Так же трактует «медные ступени» Эдипа и Eitrem, Hermes und die Тоten, 17.
|
 
|
|
в* воду старика или старуху, нищих и безобразных, которые представлялись персонифицированной смертью1. У многих народов, говорит Узенер, было представление о битве зимы и лета, причем она представляли смерть в виде старика или старухи, которых бросали в воду. В обряде это часто Toten-mann («человек смерти»), т. е. кукла, которую бьют, топят, хоронят, сжигают и т. д.; также часто выбирают скалу, с которой сбрасывают смерть в воду; иногда, вместо воды, свергают смерть со скалы на землю, разрывают на части и эти части сбрасывают в воду2. Такое сбрасывание со скалы – говорит он в другом месте – первоначально означало смерть3. Этот обычай бросать с крутого утеса стариков остался в Греции и до сих пор, в пережитке новогреческих обрядов4. Одни думают, что международный обычай бросать со «скалы смерти» или совершать прыжок с утеса в воду – что это путь души на тот свет, образное изображение процесса умирания; другие видят в этих падениях и прыжках акт реновации, нового оживания; третьи говорят, что прыжок со скалы – это прыжок самого мертвеца в страну блаженных, и связывают море и гору со смертью5. Любопытно, что обряд сбрасывания стариков сопровождался обрядом их изгнания; таким умерщвляемым и изгоняемым божеством, наряду со смертью, зимой, засухой и т. д., была и Бедность, Пения, коррелят Плутоса. Таким образом, в эпизоде свержения старого нищего Плутоса мы должны видеть эквивалент изгнания старой нищей Пении, т. е. момент полного слияния двух противоположных черт в природе Плутоса, как боярства изобилия и плодородия. Та же единая двойственность дана и в другом плодотворящем начале греков, в божестве любви, которое, по Платону, является сыном Пороса, богатства, и Пении, бедности. Это божество – в одном аспекте грязное, полунагое, бездомное, ведущее нищенскую жизнь, полную лишений;
1 Preuss, Neue Jahrb., 1906. 17, 180; Mannherdt. Wald und Feldkulte, 321; Usener. Ital. Myth., Kl. Schr., IV, 100, 103 sq. 110 sq.
2 Usener, о. c., 100 sq.
3 Usener. Der Stoff d. Griech. Epos, там же, 243 sq., 256. Такова в Таргелии смерть Терсита и Эзопа. Человеческое жертвоприношение путем сбрасывания со скалы было и в культе Таврской Артемиды, Hrdt., IV, 103. У первобытных сбрасывают со скалы стариков. – Ср. О. Фрейденберг, Терсит, Яфетический сборник, IV, 234.
4 Politis у Kerényi. Der Sprung vom Leukasfelsen. Arch. f. Rel.-Wiss., 1926, 24, 69 2.
5 Dieterich. Mithrasliturgie, 181; Carcopino. La basilique Pythagoricienne de la Porte Majeure, 3 ed, 1927, 377 sq.; Usener. Götternam. 328 sq., Beiläufige Bemerk., 314 (Kl. Schr., t. IV).
|
 
|
|
в* другом – оно полно изобилия и цветущего достатка; в себе самом переживая двойственность фаз, оно в один и тот же день умирает в природе своей матери –бедности и воскресает в природе своего отца – богатства1. Так и Лазарь; у Луки дается его перипетия из бедности в богатство, у Иоанна – из смерти в воскресение2; а то и другое семантически объединяется в обрядовом земледельческом фольклоре, где позади евангельского Лазаря находится божество урожая и плодотворящего дождя3. Конечно, в комедии Аристофана, вся фабула которой построена на перерождении Плутоса и на переходе его из фазы нищеты в фазу изобилия, присутствие двойной роли богатства и бедности является необходимым. Мы видим ее тут и единично, и раздельно: в первом случае – Богатство в виде нищего, во втором – на сцене появляется и Бедность. Но к кому же из них относится обряд сбрасывания и изгнания? – К Бедности, конечно; к безобразному нищему и старому существу, которое олицетворяет смерть и соответствует «природе матери», умиранию, – к Плутосу в функции умирающего Лазаря, в функции Пении. Платон, излагая миф о рождении божества любви, приводит такую сцену: Богатство, Порос, сидит среди богов и пирует, а нищая Бедность, Пения, стоит в дверях и вымаливает подаяния со стола4. Здесь, в греческом мифе, пир происходит среди богов, в садах Зевса, т. е. в раю, и пирующий Богач – это бог, просящая милостыню – богиня; таким образом, этот миф
1 Plat. Symp., 203 ВСD. «В один и тот же день он то цветет и живет, когда имеет изобилие, а то умирает, но снова воскресает вследствие природы отца… так что Эрос не бывает ни нищим, ни богатым». Архаично-космогоническая идея круговорота, состоящего из беспрерывных смен в противоположное, не допускает остановки, и потому Эрос, как и все богачи типа Плутоса, будучи нищим и богатым, в сущности, никогда не стабилизирует этих свойств. У Платона на основе конкретного смысла древнего мифа вырастает этическое понимание Эроса; по словам Целлера к данн. месту, «в Любви объединяются обе стороны нашей природы, конечная и бесконечная». Первая – бедность, вторая – богатство; однако самая возможность отождествления «конечной» стороны именно с «бедностью», а «бесконечной» с «богатством» указывает на классовое осмысление первоначально-конкретной метафоры.
2 Ioann., 11, 17–45.
3 А. Н. Веселовский, ЖМНП, 1892, III, 168; Аничков. Весенние обрядовые песни. Сб. Отд. яз. и сл. Ак. Наук, 73, 217. «Лазарки» – весенние обрядовые песни, обряд «лазарствования» – дохристианский аграрный обряд.
4 Plat. Symp., 203, В. Порос, божество достатка, не «выдуман» Платоном для аллегории, как некоторые думают; он встречается уже у Гесиода и Алкмана (Alcm. fr., 16 Bergk и Schol. ad loc.). Сад Зевса – античный рай, и Ориген наивно полагал, что это подражание библейскому раю (Orig. Contr. Cels., IV, 39, I, р. 532 D); ср. Bergk. Garten der Götter. Jahrb. f. Philol., 81. 414 sq.
|
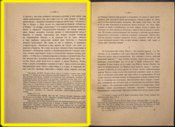 
|
|
разоблачает* евангельский реализм и показывает, что эпизод у Луки чисто-мифичен; рай, введенный Лукой для назидания, перенесен прямо из мифа, где он и был первоначальным сценарием. Мы видим, стало быть, что один и тот же миф передавался в нескольких пучках метафор: это было сбрасывание со скалы и умерщвление; это была прямая смерть и прямое воскресение; это был переход из богатства в нищету или из нищеты в богатство. Но мотивы, развертывающие эти метафоры в действие, могли концентрироваться в персонаже, в божестве аграрного плодородия; Плутос, взятый вне сюжета, оставался предметом культа, аграрным богом; но как только начинался рассказ о нем, он либо начинал умирать, либо падал со скалы, либо становился нищим.
7
В земледельческий период Плутос – бог полевого урожая, т.е. богатства; но он сохраняет в себе черты божества смерти, Плутона, и как божество смерти должен умерщвляться. Его слепота – остаток небесной (солнечной) природы1; скала (вообще, высота), море и преисподняя – это метафоры, тождественные ему, это он сам в период космического мировоззрения. В этом периоде он не столько еще Плутос, сколько Плутон; мы знаем из истории религии, что «Плутос» было эпитетом Ареса2, солнечно-огненного божества, и в этом эпитете мы можем видеть самостоятельную природу Плутоса, когда он еще был подателем солнечного света и богатства в космическом осмыслении, как образ неба и его производных. К этой стадии относятся потенции мотивов об обокраденных слепцах и нищих богачах, но семантика их своеобразна; многочисленные мифы говорят о богатстве, понимаемом, как небесный клад, и о похищении этого небесного клада, т. е. солнца3. Это похищение солнца соответствует его помрачению, исчезновению; солнце представляется ослепшим, умершим4. Следовательно, первоначальное обкрадывание Плутосов и нищих богачей (из новелл и фаб
1 О ‛слепом’ и ‛старике’ см. Н. Я. Марр, К толкованию имени ‛Гомер’. Доклады Российской Академии Наук, 1924, 4.
2 Schwenn, Ares, l. с
3 Usener. Kollone, Кl. Schr. IV, 44. Р. Эрлих. Иблис-музыкант, ЗКВ, т. V, стр. 397. – Похищение есть первоначально raptus in caelum, Kerényi, о. с., 62; Lietzmann, Bibl. Warburg, 1922–1923, I, 66–70; об обрядах таких похищений Reitzenstein, Das Märchen von Amor und Psyche bei Apuleius, 25 sq. Ср. ниже статью Р. Эрлих «Сказка о ловком воре».
4 Н. Я. Марр, назв. соч., 3 (‛слепой’-‛темный’, ‛мрак’).
|
 
|
|
лио* ), по своей семантике, предшествует образности земледельческото периода. В своей главной основе, мотив ‛кражи’ (оформляемый, когда уже существует собственность), и мотив ‛сбрасывания со скалы’ находятся к этому времени налицо. Теперь прибавляется пучок земледельческих образов: богатство как полевое обилие, перипетия урочная и засухи, избытка и нищеты, пира и голода. Когда Плутос становится божеством богатства не поля, а металла (следовательно, в общинно-родовой период), этот металл вбирает в себя земледельческую семантику, и богатство продолжает пониматься в загробном значении1. Семантика золота идет по линии солнечной, небесной; ‛золотой’ – становится эпитетом световых божеств, и самые светила представляются золотом, золотым кладом, золотыми лучами2. Период денежного хозяйства и ожесточенный характер, какой принимает классовая борьба, совершенно по новому переосмысляют Плутоса. Он слепой – потому, что не видит негодяев, которых обогащает за счет честных тружеников; его природа состоит из одних пороков и ведет людей к гибели. Бедность, напротив, полна добродетелей; ей сопутствует труд и мужество. В классовом обществе появляется желание идеализировать бедность и противопоставить ей гнилое, развратное богатство; это желание, однако, исходит не от бедняков, знающих, чего она стоит, а от «буржуазной интеллигенции», от образованной верхушки, для целей либо сатирических, либо назидательных. В первые века христианства, в период разложения эллинизма, общественная сатира и религиозная мораль подают друг другу руку, и Лазарь так же добродетелен, как у Лукиана Пения. Но у Платона, в расцвете рабовладельческого общества, Пения стояла в дверях у Богатства, скромно ожидая подаяния с пиршественного стола; здесь ей пришла хорошая мысль овладеть пьяным Богатством и родить от него сына3. Вот все, что сделала
1 Примеры земледельческой семантики металла: медные воины посеяны Кадмом; или Ясоном; из семени Кроноса из земли вырастают гиганты в блестящих доспехах; медное поколение произошло из ясеня; железо, по Каллимаху, злое растение и т.д. – В комедии Ферекрата Metalles идет речь о подземных людях, обладателях богатства и изобилия. Исчерпывающий материал по мифам, связанным с металлом, дает дисс. Р. В. Шмидт «Металлическое производство в религии и мифе древней Греции», 1931. – Ср. mе-tall-оn, рудник, и tell-us, земля.
2 Греческая мифология буквально переполнена примерами. Любопытна сказка «Звезды-монеты» (Гримм): с неба падают звезды, которые становятся на земле золотыми червонцами. Вот любопытная иллюстрация переосмысления солярной метафоры в период денежного хозяйства!
3 Plat. Symp., 203 С. Ориген (о. с.) сравнивал этот миф с историей Адама: там и тут место действия – рай. Порос – это Адам, соблазняющая его Пения – змея. Этот отец церкви был, по-видимому, сговорчивей наших ученых и, по-видимому, согласился бы даже отождествить змею с Евой. Тема, заданная Оригеном, о сопоставлении Адама–змеи с Поросом–Пенией (т. е. и с Богачом-Лазарем) очень любопытна для мифолога. Но почему он не вспомнил Руфи и дочерей Лота? – В передаче Платона, Нищая приходит к Богачу 1) за едой 2) за оплодотворением. Этот обычный параллелизм (еда-производительный акт) восходит к земледельческой концепции земли–матери, рождающей и кормящей. В фольклоре мы имеем цикл сказок, разворачивающих, этот образ таким путем. Голодный нищий приходит на огород к скупой богачке и молит поесть. Та бросает ему луковичную стрелку, или кожицу от груши, или листок порея. После смерти она попадает в ад, нищий в рай. Желая ее спасти, праведник бросает ей кусочек этого же овоща (таково условие ее избавления), но женщина обрывается и навсегда остается в аду. По большей части в роли праведника выступает сын грешницы (см. Сумцов, Легенда о грешной матери, 1893, ст. 12); поздний сюжет ввел сына, чтобы осмыслить то, что грешница является матерью. На самом деле сюжет строится на развертывании матриархально-земледельческого образа ‛матери-преисподней’; поэтому героиня становится ‛матерью’, а место действия – ‛преисподняя’, где эта мать навсегда остается и где сказка локализирована. Итак, нищий просит богачку дать поесть, богачка скупа, оба умирают, нищий попадает в рай, а богачка в ад, где и остается навсегда. Богач здесь женщина, а не мужчина; вместо стола с едой здесь огород; хлебные крохи заменены остатками овоща (в некоторых вариантах сыном грешницы является хлебопек). Итак, ‛богатство’ и ‛скупость’ связаны с ‛преисподней’ (землей). Женщина в роли то нищей (Платон), то богатой (сказка); она или ‛мать’ или ‛желающая стать матерью’, матерью становящаяся. Сказка имеет смежности 1) с мифом об уводе из преисподней матери (Дионис-Семела), 2) со сказками о жене супротивнице (злая жена падает в преисподнюю, муж хочет вытащить ее, но веревка обрывается, и жена остается в аду). Оба цикла семантически одинаковы и лишь иначе социально-оформлены.
|
 
|
|
Бедность* в платоновской идеологии! И вот все, чего она достигла! Богатство пировало по-прежнему, а Бедность по прежнему голодала … и в садах Зевса, в раю, восседал Порос, Пения же алкала на грязной земле…
Но дело не в этом и не в том, что сталось с мотивом впоследствии. Он продолжал процесс старения и моложения, делался прежними новым. Но Аристофан? но Шекспир? Зачем им были эти неоправданные мотивы?
Да, и у Шекспира и у Аристофана материал сюжета строго определен их идеологической техникой. Их сюжет – еще не свободная фабула, а традиционный комплекс мотивов, семантизированных создавшим их мировоззрением. У Аристофана этот семантизм, давно выродившись, остался в форме угрозы, у Шекспира в форме мистификации: его нет по содержанию, но он продолжает управлять формой1. Однако, даже угроза, даже
1 Такова мистификация и угроза в этом же мотиве в Оd., XIV, 397 sq. К свинопасу Евмею приходит нищий и безобразный старик, который предсказывает возвращение Одиссея. Он предлагает, в случае неисполнения его слов, чтоб Евмей возбудил против него рабов, и они сбросили бы его вниз с высокой скалы. Этот старый нищий – сам Одиссей. Гомеровский стих указывает, что роль рабов в данном обряде была обязательной и что не даром у Аристофана именно раб угрожает Плутосу.
|
 
|
|
мистификация*, данные в так называемом готовом сюжете, хотя бы в незначительной фразе, при семантическом анализе вскрывают глубокие закономерности и связи. Связи целых стадий человеческого общества, закономерности общественного мировоззрения и его принудительных отливок.
|
 
|