Три сюжета или семантика одного
Опубликовано: Язык и литература. – 1930. – Т. 5. – С. 33–60; Поэтика сюжета и жанра: период античной литературы / О. Фрейденберг. – Л.: Гослитиздат, 1936. – С. 335–361.
Перевод: Three plots or the semantics of one // Formalism: history, comparison, genre / ed. by L. M. O'Toole and A. Shukman. – Oxford: Holdan Books, 1978. – P. 30–51. – (Russian poetics in translation; vol. 5); Trzy fabuły — jedno znaczenie / O. Freidenberg; przeł. W. Krzemień // Dialog. – 1982. – № 4.
Перевод: Three plots or the semantics of one // Formalism: history, comparison, genre / ed. by L. M. O'Toole and A. Shukman. – Oxford: Holdan Books, 1978. – P. 30–51. – (Russian poetics in translation; vol. 5); Trzy fabuły — jedno znaczenie / O. Freidenberg; przeł. W. Krzemień // Dialog. – 1982. – № 4.
$nbsp;
Поиск: по документу
Режим: текстовый | факсимильный
Язык и Литература, 1929 г., т. V, 33 *
РАНИОН* Научно-исследовательский институт сравнительной истории литератур и языков Запада и Востока Три сюжета, или семантика одного.Les trois sujets littéraires ou la sémantique d’un seul.О. Фрейденберг 1. Этой зимой я перечитывала «Дон-Кихота»; и когда я дошла до той знаменитой сцены, где бедного Санчо-Пансу насильно делают губернатором, я увидела, что палеонтологический анализ нужно прилагать именно к сюжетам новой литературы, потому что поздние формы выразительней ранних и открывают семантологии новые дороги. Эта мысль, казалось, стала подтверждаться, когда я, много месяцев спустя, перечитывала «Жизнь есть Сон» Кальдерона, уже без всяких научных намерений. И тут, в первую очередь, меня поразило сознание, что европейский сюжет XVII-го века, совершенно независимо от авторов, был, так сказать, специфически до-историчен и проявлял свою закономерность с какой-то исчерпывающей убедительностью. Но я обрываю эту справку о зарождении работы и сразу перехожу, словно с этого дело и началось, к «Укрощению Строптивой*» Шекспира. 2. Один лорд, возвращаясь с охоты, находит пьяницу, которого велит перенести в свой дворец, дать ему проснуться на роскошном ложе, переодеть его в пышное платье и сервировать у его постели богатый стол. Подошедшая труппа актеров предлагает лорду |
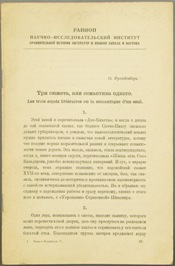 
|
довести* обман до конца и заставить пьянчугу быть не только объектом, но и зрителем веселой комедии. Сказано-сделано; и вот бродяга просыпается среди роскоши, где свита лорда величает его владетельной персоной и убеждает, что вся его прежняя жизнь была сном, а настоящая именно здесь; один молодой паж, переодетый женщиной, разыгрывает жену мнимого лорда; сам лорд настоящий, в платьи* слуги, прислуживает тому, кого он дурачит. Бедняга начинает входить в роль, ест, пьет, заигрывает с псевдо-женой; затем дается представление «Укрощение строптивой», и о пьянчуге забыто. Но тысяча вариаций этого сюжета говорит нам, что бродягу опять усыпят, опять переоденут в его тряпье, и заставят его снова проснуться в его прежней ситуации, но уже без всякой уверенности, сон ли проносится перед ним, жизнь ли, лорд он или бедный пьяница и «замарашка» Сляй.
3. А самое «Укрощение строптивой»? – Оно стоит совершенно особняком. Здесь дается история непокладистой, сварливой женщины, которую хитростью и утрировкой ее же манер усмиряет и покоряет ее муж. – И только. Два сюжета, совершенно различных, и потому за ними стоят две ничем не связанных линии литературных предшествий. И, конечно, литературных аналогий: тут Паньчатантра, фаблио, итальянская новелла, сказка, произведения отдельных европейских писателей. Так, по крайней мере, говорит нам традиционный формальный подход, стоящий на точке зрения «сверх-историзма», как сюжета вообще, жанра вообще, литературных приемов вообще. И потому, вслед за первым выводом, идет неизбежный второй: Шекспир заимствовал сюжет… или: Лопе-де-Вега взял однажды сюжет… или: Гете избрал сюжет, который уже до него Марло и Фридрих-Максимиллиан Клингер… и т. п. И дальше идет регистрация отдельных эпизодов, называемых мотивами, в их сходстве или в их отличии. Схожее бережно идет в потребление; отличия, как плевела, отбрасываются. Получается такая картина: веревка литературной преемственности; за веревку |
 
|
держаться* гении различных наций; по веревке бежит кольцо готового сюжета, которое передается из рук в руки. От кого к кому? – это основной вопрос так называемого «развития». Но, конечно, не менее важен и генезис. Кто был первый портной? Кто первый автор такого-то сюжета? В котором году и в каком городе он выдумал («создал») его? Итак – мертвый мир, мертвый мир случайности, обособленных «совпадений» и произвола личной фантазии!
4. Но я вернусь к строптивой. Жизнь есть сон – мы это знаем; классическая разработка у Кальдерона, знаем и это. Но именно потому и сличим с нею. Как же у Кальдерона? – Там общая канва говорит следующее. Чтоб избежать роковых предначертаний, наследника Полонии держат вдали от людей, в глухой башне, скованного, одетого в звериные шкуры; желая проверить судьбу, его усыпляют, переносят во дворец, роскошно облачают и говорят ему, кто он; но рока не преодолеть; предсказания о кровожадности принца сбываются, и его снова, усыпляя, переносят в прежнее место его томлений, где жизнь во дворце объясняют сном. Дальше события изменяются: герой все-таки разрывает узы своей темницы, идет войной на родного отца, и когда тот, трепеща перед роком, склоняет пред сыном царственные седины, совершается перелом – и дело кончается общим миром. Вот сюжет Кальдерона с точки зрений окаймления пьесы Шекспира и сам по себе вообще. Но теперь позвольте его рассказать, как «укрощение строптивой». Надменный вспыльчивый принц, охраняемый в далекой пустыне от проявлений своего свирепого нрава, совершенно смиряется… благодаря жене? Нет, благодаря переходу из сна в явь, после своего самостоятельного выхода из заточения; и, укротившись, он женится. Хорошо. Но кое-что начинает освещаться неожиданно. Прежде всего, здесь один сюжет или два? Как будто один и тот же; но, говоря добросовестно, все же два. Ведь у Шекспира укрощает муж жену; а у Кальдерона… А у Кальдерона никто: герой сам укрощается. Зато |
 
|
вспомним*, что героиня Шекспира, из-за своего злого и надменного нрава, также живет в одиночестве; у Кальдерона герой является перед нами закованным, а у Шекспира есть сцена – странная очень сцена! – где героиня бьет свою связанную сестру. Какое-то ныряние этих двух сюжетов; то выплывает полное единство, то на поверхности одно отличие. По-видимому, нужно обратиться еще к одному гению… Это Бокаччио; в VIII рассказе III дня его Декамерона находится сюжет, который обычно принимают за вариацию сюжета «жизнь есть сон». Но здесь он оказывается весьма легкомысленным: один аббат, желая поухаживать за женой ревнивого глупца, усыпляет его, кладет в гроб и объявляет умершим; пока жена оплакивает его и сходится с аббатом, беднягу запирают в темный погреб, где его старательно каждодневно секут и убеждают, что он находится в чистилище; и лишь когда жена ревнивца становится беременной от аббата, глупого мужа снова усыпляют, и он восстает из гроба, исцелившись навеки от ревности. Но вот одна подробность: при переносе глупца из гроба в погреб его переодевают, как и при обратной метаморфозе, и аббат, отправляясь к изменнице, идет к ней в одежде ее «покойного» мужа. Что же в этом сюжете отчетливей: переход мужа из жизни в смерть и снова в жизнь, или мотив «эротики», соединения жены с аббатом? Или, быть может, мотив усмирения ревнивого мужа? – Ответить еще трудней; но запомним, расставаясь с Боккачио, что его сюжет является аналогией к сюжету не только Кальдерона, но и Шекспира, и дает эту аналогию в существенно иных транскрипциях. Здесь «жизнь есть сон» обращается в «жизнь есть смерть», а свадьба – в акт воспроизведения.
5. ! O quanto el naser, O quanto Al morir es paresido! (Из стансов Кальдерона). И вот мы отошли на время от Кальдерона и очутились возле ефесской матроны в склепе, где по настоящему похоронен ее умерший – действительной умерший! – муж. Сюжет всемирно |
 
|
знаменит* : вдова, матрона из Эфеса, горько оплакивает своего дорогого покойника и не покидает ни траурных одежд, ни могилы. Но когда к ней случайно заходит случайный солдат, она тут же, в траурных одеждах и в могиле, соединяется с солдатом. Итак, разница, по сравнению с сюжетом Декамерона, та, что тут муж подлинно мертв, и что жена соединяется с любовником в могиле, в склепе, в присутствии покойника, сама в траурном одеянии и слезах скорби. Это уже не просто адюльтер, каким его рисует позднейшее осмысление, а полное слияние смерти и производительного акта: «жизнь есть смерть» – в дословном значении, где мы имеем не переход одного состояния в другое, а оба зараз, в виде единого нерасторжимого образа, передаваемого двумя равнозначными, хотя и различными, мотивами. Но кто же этот солдат? – Я оставляю индусскую версию и ее параллель у Петрония в стороне и беру только вариант из «Золотого Осла» Апулея. Рассказ здесь прост: юноша, нанявшийся охранять одного покойника от духов смерти, соединяется с «безутешной» вдовой тут же, и покойник остается невредим, за счет юноши. Итак, духи смерти нападают не на мужа, а на его заместителя. Так это заместитель мужа не только в отношении к жене, но и к смерти? – Да, конечно. Ведь аббат из Декамерона, идя к жене «покойника», переодевается в платье умершего мужа; юноша Апулея, охраняя покойника, принимает его имя и – это сказано сюжетом прямо – сам мыслится мертвым.1 У него, следовательно, две функции: соединится, подобно самому мужу, с женой и представить собой именно умершего мужа. Но каков язык образа! Производительный акт дается в полном тождестве к акту смерти, и именно умерший оплодотворяет женщину, свою вдову, в траурной одежде и слезах, внутри склепа.
6. Итак, аббат, в костюме покойника идущий к вдове, это муж, который находится в преисподней, но выходит из гроба, как 1 “Ut ne deus quidem Delphicus ipse facile discerneret duobis nobis iacentibus, quis esset magis mortuus” II 25; ср. 30.
|
 
|
только* жена его становится беременна. Здесь чистейший образ воскресения, как оплодотворения, – архаичный, как известно, образ. Но об этом ниже. Сейчас нужно лишь закрепить наблюдение, что заместитель мужа это сам муж в хтоническом аспекте, это двойник, переживающий на себе фазу прохождения смерти; ибо муж живет вечно, и смерти, как какого-то прекращения, как конца жизни, произошедшего однажды и раз-навсегда, вообще нет; а есть перманентная смена реноваций, не знающая пауз, беспрерывно заполненная перемежением, где то «жизнь есть смерть», то «смерть есть жизнь». Процесса действий нет, а есть их плоскостное и одновременное, вполне конкретное, присутствие. Чтоб инсценировать образ жизни, рожденной смертью, дается могила, и в могиле акт воспроизведения. Но нужно изобразить мужа и жену одновременно и мертвыми и живыми. Эту функцию выполняют вещи и дублеры. Если жена в трауре и в слезах – она в фазе смерти; если муж лежит мертвым здесь же или внизу в темном погребе, а наверху аббат или рядом юноша солдат соединяется с женой, то это значит, что умерший муж совершает акт оплодотворения. Если место действия этого акта склеп // могила, то смерть изображена производительницей. Как только акт кончен, как только функция смерти выполнена, мертвый оживает, а его двойник улетучивается. И вот воскресение на лицо, ибо жизнь есть смерть или, что то же, только временный сон. Расторжимо ли одно представление от другого? Две метафоры или одна перед нами в этих мотивах ‛перехода из жизни в смерть – из смерти в жизнь’ и ‛соединения’ (женитьбы, адюльтера)? Мы снова в том же затруднении. Ибо снова этих метафор на лицо две и этих мотивов два, и отрицать это бесполезно. Но теперь мы еще больше должны были убедиться, что они представляют собой один и тот же образ, и именно они сами, в том оформленном, готовом виде, в каком они реально существуют перед нашим непосредственным взором, и не в исторической реконструкции, не в том, что этот образ лежит «под ними», «за ними», «в них» и т. д. – нет, именно в своем различии и в своей двоякости
|
 
|
(ведь* их двое!), в своей дифференцированной формовке, эти самые две метафоры суть один и тот же образ. «Суть – один». Новая арифметика и новая логика! Но если «суть», только ли две метафоры «суть один образ», или же их множество? – Мы сейчас это увидим.
7. Для этого забудем все сказанное и займем традиционный пункт наблюдения, улавливающий аналогии. Возьмем историю Гассана из 1001 ночи, где еще сохранились свежие черты брачной подмены жениха – горбуном, перенесения героя во времени брачной ночи прямо с постели в таинственную страну и обратно в ту же постель после рождения у его жены сына, – опять-таки, с мотивами сна, побоев, временной роли слуги, смерти и воскресения; историю, там же, глупого Ксаилуна, которого била жена, пока в насмешку он не был усыплен и переселен на тот свет, где на него была надета козья шкура и козья маска (подлинные атрибуты плодородия и дьявольщины!), а затем снова усыплен, переодет и положен на прежнее место, – после чего он излечился от глупости; возьмем показательную новеллу Граццини1, где пьяницу переносят во дворец, а затем прячут его в темный монастырь, и пока он здесь находится среди замаскированных в покойников людей, его объявляют умершим, хоронят под его видом другого человека и жену его выдают замуж, – а когда герой снова появляется на свет, то это объясняют, как похищение его злыми демонами и как призрачный вид беса; сюда же примыкает, в Cento Novelle Antiche, флорентийская новелла о столяре, которого в насмешку перестают считать самим собой, а принимают за другого, засаживают в тюрьму, потом за ужином усыпляют, переносят на его собственную кровать и заставляют проснуться опять собою2. Не менее ярка одна из сказок, сохранившихся по сей день в одном из глухих углов нашего Союза: жена, желая обмануть мужа, усыпляет его в по 1 Ant. Grazzini detto il Lasca, Le Cene ed altre prose, флорент. изд. Fanfani, 1857 III 10.
2 [НК – Здесь речь идет, скорее всего, об анонимном флорентийском тексте «Новеллы о Грассо, инкрустаторе и резчике по дереву» (Европейская новелла Возрождения / [сост. и вступ. статья Н. Балашова, А. Михайлова, Р. Хлодовского]. Москва : Худож. лит., 1974. С. 58–88. (Б-ка всемирной литературы. Серия первая. Литература древнего Востока, античного мира, средних веков, Возрождения, XVII и XVIII вв.; Т. 31) |
 
|
стели* и в сонном состоянии раздевает его; когда муж пытается опять войти к себе (жена вынесла его из дома), она убеждает его, что ее настоящий муж при ней, а это не он; ощупав себя в темноте, бедняга и сам, подобно флорентийскому столяру, видит в себе только чье-то «подобие», отправляется странствовать в чужие страны и ровно через год возвращается домой; тогда жена снова усыпляет его, одевает в его прежнее платье и переносит в постель, в прежнюю обстановку, где наш герой опять просыпается и где жена убеждает его, что весь проведенный им год со всеми его злоключениями – был лишь сном.1
Сюда же примыкает весь цикл сказок такого содержания: муж прогоняет жену, позволяя ей взять с собой самое дорогое, и вот она берет именно его в пьяном или в сонном состоянии. Одна из таких версий, идущая, по-видимому, из талмудической новеллистики, говорит, что во время одного развода жене было позволено взять с собой самое лучшее; происходит пиршество, жена напаивает мужа допьяна и, когда он засыпает, переносит его вместе с кроватью к себе; проснувшись ночью и узнав, что он для жены – самое лучшее в доме, он воссоединяется с нею.2 Итак, что же мы добыли из этих аналогий? Ровно ничего, если только не считать того, что этим аналогиям противоречит. Гассан рассказал нам, что ‛горбун’ дублер ‛мужа’ в его хтонической функции; что ‛брачная постель’ дубликат ‛могилы’, а ‛таинственная страна’ – ‛смерти’; словом, что один и тот же образ резко варьирует язык своих метафорических транскрипций. Ксаилун, который в акте реновации избавляется от глупости, как муж в Декамероне от ревности, дал нам вариант мотива усмирения и перехода в противоположное состояние. Столяр, вместе с Гассаном и с еврейской сказкой, принес в виде завязки мотив пиршества. Наконец, – и это главное – почти все приведенные сюжеты неразрывно слили мотив перехода из яви в сон 1 Сказка (это лишь ее фрагмент) была мне передана по другому поводу, С. Л. Быховской. Записана она на мохском диалекте армянского языка И. А. Орбели, который любезно позволил мне привести ее.
2 Jew. Encyclop. XI 359. |
 
|




