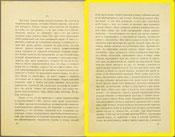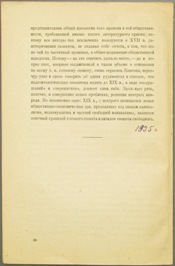Три сюжета или семантика одного
Опубликовано: Язык и литература. – 1930. – Т. 5. – С. 33–60; Поэтика сюжета и жанра: период античной литературы / О. Фрейденберг. – Л.: Гослитиздат, 1936. – С. 335–361.
Перевод: Three plots or the semantics of one // Formalism: history, comparison, genre / ed. by L. M. O'Toole and A. Shukman. – Oxford: Holdan Books, 1978. – P. 30–51. – (Russian poetics in translation; vol. 5); Trzy fabuły — jedno znaczenie / O. Freidenberg; przeł. W. Krzemień // Dialog. – 1982. – № 4.
|
картина* пробуждения Сляя на пышном ложе, с прислуживанием лорда, и роль пажа, переодетого женой: это все та же функционально-женская роль, в идее женско-мужской травестии, передающей образ сексуального слияния и обоюдного уподобленья. Такова же точно и эпизодическая пара в пьесе Кальдерона. Здесь тот же дублирующий брак, и его героиня, Росаура, тоже ходит в мужском платье и тоже временно исполняет роль слуги. Она – дубликат невесты Сехизмундо; завязка и здесь потребовала, чтобы конь Росауры* упал возле Сехизмундовой башни, точно конь, падающий под Катариной в день ее свадьбы. Но мы уже знаем, что смерть – падение коня есть стабильная метафора ‛укрощения’ и ‛брака’.1 Эпизодические лица, повторяя героев, усиливают их семантически. Так, если Бианка дублирует Катарину у Шекспира, то у Кальдерона в одной из второстепенных сцен слуга Кларин дублирует Сехизмундо. Ведь то, что у Шекспира разыгрывается в двух комедиях (в комедии обрамления и в комедии представляемой пьесы), то у Кальдерона следует одно за другим в виде продолжения. И как раз во второй части у него есть эпизодическая сцена, которая передает сюжет шутовского царя в классическом виде: слуга Кларин должен быть умерщвлен. Но перед самой смертью его заключают в темницу и на очень короткий срок избирают царем. И он, шутя, выражает опасение, что в этой стране есть, по-видимому, обычай, который заставляет избирать кого-нибудь в принцы, а затем бросать в темницу (III, 28 sqq.). И когда его, по ошибке, называют царским именем «Сехизмундо», он предлагает, что такое имя дается всем «поддельным» (contrahechos) принцам (ib. 38).2 Здесь еще яснее пережиточная роль Сехизмундо, как временного субститута царя, взятого из числа узников в царский дворец в обладание всем царским почетом и снова отправленного в обладание всем царским почетом и снова отправленного в область смерти, – роль шекспировского Сляя.
1 Таков образ «сбрасывающего с ног» коня и его обсценное значении в De Syntipa Narratio III, 2 и IV, 1 (ed. Eberhardt).
2 Интересно сопоставить мнение Фрезера (the Scapegoat, 419), что эти все «поддельные» принцы имели свое официальное имя «сын отца» («Barrabas»), кем и является, в сущности, Сехизмундо.
|
 
|
|
17* .
Вот и все. Анализ наших сюжетов закончен. Но хочется на теоретических выводах поставить большее* ударение, чем на самом материале. Сперва, однако, самое основное: мы убедились на опыте, что три сюжета, – а их три, потому что в действительности, реально, их существует трое, – что три сюжета являются только сюжетом одним. Этот один сюжет представляет собой развернутый один образ рождающей смерти. Я сейчас сознательно устраняю все генетические вопросы, которым уже отданы мои другие работы; устраняю их здесь оттого, что хочу придать ударное значении только вопросу взаимоотношения между образом и его передачей в метафорах. Разбирая отдельные мотивы сюжетов, мы наталкиваемся на один основной образ, который манифестировал свою семантику в целом ряде параллельных, друг другу вариантных, метафор. Но где же он сам, образ в чистом неприкосновенном виде, тот образ, от которого пошли эти все побочные образы? Где тот единый сюжет, который «дифференцировался» или «развился» в серию подобных ему сюжетов? – Только что проделанный анализ показал, что ни такого образа «в чистом виде», ни такого сюжета в качестве «источника» нет и никогда не существовало. Старая категория мышления, даже в области идеологии имеющая свою систему привилегии, заменяется той, где ни одна из величин не доминирует над другой. Образа, как ипостаси, нет; есть только конкретно отвеществленный образ, образ в виде метафоры. Но почему «метафоры»?
Значит ли это, что мы имеем дело с одними отвлеченностями и «уподоблениями»? – Нет. Просто здесь нужна предпосылка, что образ порождается реальностью, воспринимаемой антизначно к этой реальности; предпосылка, что ощущение и восприятие не адеэкватны*, и что смысловое содержание этого восприятия, его семантика, всецело подсказывается данной общественной идеологией. Для диффузного и конкретного мышления до-истории реальная действительность осмысляется образно, и поэтому каждый
|
 
|
|
образ* представляет собой ту или иную метафору действительности, но не действительность, как таковую. Поэтому, за каждым образом лежит та или иная реальность, и речь идет каждый раз особо только о том, что именно из реального мира передается в данном образе, каким реальным явлением локализован данный образ; между тем, такой «инкарнацией» образа является метафора, – если согласиться, что она не есть просто отвлеченность и «перенесение», а идеологическая единица, органически слитая с реальность. При такой подходе не может быть преимущества одной метафоры над другой; каждый образ есть метафора, каждая метафора есть уточненный образ. Другими словами, мы схватываем родовое единство образа только в его уточнениях: образ проявляется только в различиях своих передач. Между метафорами, передающими образ, и между самим образом, передаваемом через них, никак не провести ни линеарного ряда, ни преемственности, прямой или прерывистой. Перед нами все время находится не ряд, но система, и выводить ее происхождение приходится не за счет того или иного члена этой системы, а совсем из другой области, лежащей вне данной системы, – из общественной идеологии. Точно также, одного сюжета, как источника наших трех, в реальности никогда не было; он один, посколько развертывает все время только один образ, но его три (или может быть множество), посколько метафоризация этих развертываний тройная и укладывается в три отдельных цикла. «Одно» дало «три» и могло бы дать сколько угодно больше – не превышая, впрочем, явлений окружающей жизни, которые попадают в общественный кругозор и создают локальности данного образа. Итак, сюжет порождается идеологией данной общественной группы и выражает, проявляет себя в различиях своих мотивов, всегда сводимых к идеологическому единству, но в оформлении ничем не похожих друг на друга, как непохожи, внешне пестры и, казалось бы, хаотичны сами общественные явления. Точно так же и великие писатели XVII в., культивируя древний сюжет, не прибегают к нему в качестве случайного, только им свойственного, личного приема творчества, а являются
|
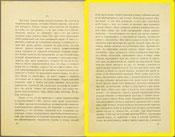 
|
|
представителями* общей идеологии того времени и той общественности, требовавшей именно такого литературного приема; поэтому все авторы без исключения пользуются в XVII в. до-историческим сюжетом, не отдавая себя отчета, в том, что это не чей-то частный произвол, а общее выражение общественной идеологии. Почему – на это ответить здесь не место, да и вопрос этот, впервые выдвигаемый в таком объеме в отношении ко всему т. н. готовому сюжету, очень серьезен. Конечно, чересчур узко и слепо говорить об одних рудиментах и считать, что палеонтологическая семантика вплоть до XIX в., в виде «подражаний» и «пережитков», довлеет сама себе. Здесь идет речь, конечно, о совершенно новых проблемах, решение которых впереди. Но несомненно одно: XIX в., с которого начинается новая общественно-экономическая эра, проходящая под знаком капитализма, индивидуализма и частной свободной инициативы, является конечной границей готового сюжета и началом сюжета свободного.
1925 г.*
|
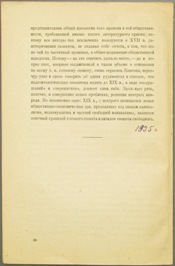 
|