|
*
О. Фрейденберг ВОСПОМИНАНИЯ О Н. Я. МАРРЕ1
1
Смерть Марра не произвела на меня никакого впечатления. Все, что можно было пережить после утраты большого и бесценного человека, я пережила во время его удара.
В последние годы я избегала бывшего Яфетического Института 2. Но нужно же было случиться так, что именно тот день оказался долго, чересчур долго откладывавшимся днем, когла я должна была по делам общественности лингвистического факультета ЛИФЛИ 3 присутствовать на заседании Кафедры общего языкознания, – а оно происходило именно в Институте Языка и Мышления. Я стояла у дверей кабинета директора, где * обычно заседала Кафедра, но не решалась зайти; мне трудно открывать академические двери; без усилия я не могу зайти ни в одно ученое собрание. Вдруг меня увидел знакомый аспирант. Он рассказал, что на заседании присутствует сам Марр. Это сразу придало мне противоречивую решимость и непременно зайти – и отложить посещение. И, так как мимо проходила моя приятельница, душевно мне родственная, временно работавшая в ИЯМ'е, – я за нее уцепилась и пошла предаваться решению 4. Как вдруг входит в ту комнату один из сотрудников и говорит, что заседание пришлось на время прервать, так как Н. Я. почувствовал себя что-то не совсем хорошо. Я, как это всегда бывает, и порадовалась тому, что не зашла, и пожалела об этом. Можно было уходить. На лестнице мимо меня пробежала одна сотрудница, успевшая сказать, что бежит навстречу вызванной карете скорой помощи, которая должна отвезти Марра на квартиру. Я живо представила себе суету, которая сейчас поднимется в Институте, и кучку лиц, понимающую все событие как свое соб
1 Читала на кафедре классической филологии Ленинградского Университета 23 декабря 1937 г. [Прим. О. М. Фрейденберг]
2 В 1921 г. при квартире Марра был создан Институт яфетидологических исследований, обычно именовавшийся в обиходе Яфетическим институтом и превращенный затем в Институт языка и мышления (ИЯМ).
3 ЛИФЛИ – Ленинградский институт философии, литературы и истории – факультеты Ленинградского университета, существовавшие некоторое время как отдельный институт.
4 В связи с этой специфической робостью, естественной в новичке и удивительной в зрелом человеке и руководителе университетской кафедры, хочется напомнить, что О. М. Фрейденберг относилась к едва ли не первому поколению женщин, работавших в академической и университетской науке. Появление такого поколения (в отличие от ярких исключительностей предшествующего периода) впрямую связано с реформой высшего образования, отменившей женские курсы. Учиться на курсах Фрейденберг упорно отказывалась, но в Петроградский университет «записалась» немедленно в 1917 г.
|
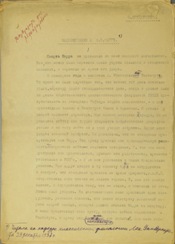 
|
|
ственное. Мне казалось бестактным и в отношении их и в отношении себя присутствовать при посадке Марра в карету скорой помощи. И я, не придавая случаю никакого значения, убежала.
2
Вечером мне позвонили, что с Марром удар. Жизнь вздрогнула и перекосилась; я помню в детстве южные землетрясения, когда комната внезапно меняла линии и геометрия летала к черту. Все в корне изменялось. И теперь только делалось видно, что подпруга упала. Марр – это была наша мысль, наша общественная и научная жизнь; это была наша биография. Мы работали, не думая о нем, для него, и он жил, не зная этого, для нас. Происходило непоправимое: с Марром удар! Нужно было искать путей как-то жить и ходить дальше, навеки без Марра.
Все теряло интерес и значенье. Мы с матерью целыми днями ждали вестей1. Звонили нам по кусочкам; и хотя все, что сообщали, говорило об улучшении, нагнетались и уже не уходили предчувствия. Когда же первая спазма прошла и Марр возвращался к жизни, почувствовалось, что произошла катастрофа.
В который раз нужно было учиться продолжать жить! За несколько дней было растеряно нажитое годами. Я была не то что удручена, но опустошена до основания.
3
Я о Марре ничего не знала. Это было в начале двадцатых годов. Иногда на семинаре Жебелева Генко говорил о каком-то Николае Яковлевиче, а Жебелев с ним спорил. Выплывали какие-то корни слов, имена-отчества, частности, что-то хорошо известное только им обоим. Почему-то это вызывало стереотипные эмоции у Жебелева, ехидную улыбку у Генки. Все это относилось к частным разговорам2.
Я* кончала университет, и вся академическая жизнь, всегда
1 Мать – Анна Осиповна Фрейденберг; с начала 20-х годов мать и дочь живут вдвоем, и Анна Осиповна, целиком поглощенная интересами дочери, становится ее первым слушателем, критиком, «наперсницей».
2 В начале 20-х годов, когда новый научный быт еще не сложился, старые профессора продолжали свою деятельность, ведя семинары на дому. «Студентами» на этих семинарах или кружках, как правило, бывали уже зрелые люди, учившиеся у этих же профессоров еще до революции, – среди них А. Н. Егунов, А. В. Болдырев, А. И. Доватур. О. М. Фрейденберг была едва ли не единственной собственно студенткой в семинаре С. А. Жебелева, известного историка античного мира, бывшего руководителем ее первых научных работ. В семинаре занимались чтением и комментированием греческих авторов. О кавказоведе Анатолии Нестеровиче Генко Фрейденберг в своих мемуарах, над которыми она работала в конце 40-х годов, вспоминала: «Генко был лингвистом и учился у Марра, который имел в то время репутацию научного чудака. Мефистофельский ум Генки любил все острое, парадоксальное, антипопулярное; Генко с большим увлечением (он был умен, образован и талантлив) предавался „яфетидологии» (...), охотно спорил с Жебелевым и, видимо, рад был, что он единственный и любимый ученик Марра (...).Генко, действительно, был преданным учеником Марра до той поры, как возле его непризнанного, гонимого в научной среде учителя не появился другой адепт (...) Мещанинов».
|
 
|
|
для меня невнятная, отходила как уже забытое. Весь мой пафос лежал в «Происхождении греческого романа», над которым я с 1919 г. работала, и теперь его писала с захватом дыхания, пораженная и увлеченная тем, что у меня неожиданно получалось вразрез со всем, чему меня учили старые люди и книги1. В Публичной Библиотеке, где я зимовала, одна служащая стала мне твердить: «Вам нужно познакомиться с Марром!»
– А кто это такой? – я спрашивала.
Наконец диссертация готова и переписана. Нужно поехать к Марру, так как он стоит во главе коллегии ИЛЯЗВ'а. Говорят, он поможет ее провести: 1923 г.,- это первая советская диссертация, и никто не знает, можно ли до нее дотрагиваться руками. Степени отменены, аспирантуры еще нет2.
Вот день и час назначены. Мне трудно. За плечами много, много вынесено с этой работой. Находить дом и квартиру я не умею. Хожу по казенному двору, плутаю, спотыкаюсь. У самого входа большая черная кошка выгибается мостом и перебегает. Звоню. Маленькая, в темном, старушка приветливо-строга; Марра дома нет; ждать не стоит – раз он ей ничего не сказал о моем приходе, значит, забыл – и тогда все бесполезно.
Но я загадала. И на меня находит решимость предельного от чаяния; я загадала, что «примет – пройдет работа, не примет – пропала».
Я сажусь на стул и собираюсь не уходить. «Ну, как хотите, только я вам не советую».
Комната простая. Стол рабочий, по стенам простые стулья. Вдруг вся обстановка преображается и пропадает: входит Марр.
Я вижу его впервые, но этого не соображаю. С разговором посредине, с живыми и живущими глазами, с полнотой жизни в разгаре, входит в комнату Марр, продолжает подавать руку, садиться, говорить, улыбаться.
1 Поскольку защите этой работы, состоявшейся 14 ноября 1924 г., посвящено довольно места, несколько слов о самом исследовании. Не имея здесь возможности вдаваться в суть работы, я как один из очень немногих ее читателей возьму на себя смелость утверждать, что она была новаторской в полном смысле этого слова. В рукописи хватает несовершенств и следов не спешки, пожалуй, но как бы слишком скорого движения мысли, когда некогда осмотреться и отделить достоверное от сомнительного, когда представившаяся картина так завораживает, что все, кажется, подтверждает ее истинность. За истекшие 60 лет мысли этого исследования в основном уже высказаны многими учеными, причем в спокойной академической манере, разительно отличающейся от страсти и азарта этой фактически студенческой работы; высказывались эти идеи не все разом, а по одной или две на монографию, хорошо документированные и избавленные от преувеличений. В таком виде и освященные именами виднейших филологов они вошли сегодня в учебные курсы. Рукописи «Происхождения греческого романа» и второй редакции 1929 г. («Проблема греческого романа как жанра страстей и деяний») хранятся в архиве О. М. Фрейденберг в одном экземпляре.
2 В первые послереволюционные годы ученые степени выглядели таким же пережитком, как и дворянские титулы. Фрейденберг хотела прежде всего публичного диспута, чтобы обнародовать свои результаты, коль скоро издать книгу не было возможности. Так и свой последний труд «Образ и понятие», завершенный в годы, когда Фрейденберг уже не служила, она собиралась защищать в качестве докторской диссертации по философии, чтобы получить возможность опубликовать автореферат. Но и формальное признание ученого мира было крайне необходимо представительницам первого поколения женщин-ученых. В своем архиве Фрейденберг хранила вырезку из «Красной газеты» с заметкой о своей защите «Поэтики» в 1935 г.: «Первая женщина – доктор литературоведения». Полное название ИЛЯЗВа, где защищалась диссертация, – Научно-исследовательский институт сравнительной истории литератур и языков Запада и Востока.
|
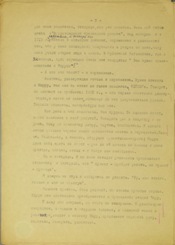 
|
|
- Вот хорошо, что вы не ушли! Забыл. Пошел только побриться. Сижу – и вспомнил: а я жене забыл сказать. Ну, думаю, скандал, вы приехали и уйдете!
Мы сидим и прекрасно рассказываем, перебивая друг друга. Моя жизнь озарена! Прорезалась страшная плотина, и легко, с улыбкой, я спешу рассказать о самом существе своей работы; все позади и оправдано. И Марр все сразу говорит о себе – и что пережил, и что открыл, и что хочет, и о чем думает. Тут же он встает, звонит директору и моментально проводит диссертацию и назначает день рассмотрения на факультете. Сложнейшее дело, которое можно было волочить десятки месяцев, он разрубает в пять минут, абсолютно без малейшей процедурности. Он возвращается весело, делает реплики по адресу директора – и снова прыжок с головой в глубочайшие проблемы.
Я ухожу, неся в руках свое сердце и новую жизнь. Рухнуло жестокосердие и темный бюрократизм виц-мундирной науки. Человечьим, гретым, милым подуло в лицо, и он сказал: «Вы должны* во всех подробностях рассказать мне вашу работу, потому что все, что я от вас услышал, то самое, что и я делаю в лингвистике».
4
Дома долго обсуждается, похож ли он на дядю1 и какая у него борода. Мы решаем, что он, наверное, очень похож – иначе не было бы столько любви и простоты в обращеньи. О том, что я незнакомая ему вчерашняя студентка (другой титулатуры у меня не было), а он академик, не приходило в голову.
После этой встречи дни устремляются к цели. Балласт сброшен и лёт ускорен. Я прихожу к Марру в Публичную Библиотеку. Реальность смещена. Каким образом этот директор и крупнейший администратор часами принимает житейски-неведомого ему человека без социального положения и забрасывает его мыслями, планами, жалобами, впечатлениями? Он всегда открыт и досягаем;
1 Дядя – брат Анны Осиповны. Леонид Осипович Пастернак, известный художник, горячо любимый сестрой и племянницей за открытый нрав и пылкую доброту: академик живописи и академик Марр сравнивались тут по простоте и непосредственности характера.
|
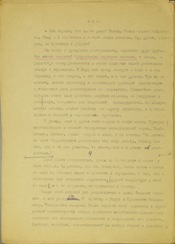 
|
|
его жизнь для всех.
Но вот настает день моего диспута. Марр проводит диссертацию по какой-то фантастической секции1 и только потому, что он там председатель и может мне активно помочь. Диспут проходит скандально; академическая среда враждебно и саркастически относится к защите анти-формальной работы неизвестного ей человека. Никакой «формы» не соблюдает и Марр: он, в роли председателя, активное всех, и то задает вопросы оппонентам, то неожиданно бросает ответные реплики, то заговаривает со мной, подмигивает, поощрительно жестикулирует, шлет мне драгоценнейшую записочку: «Пожалуйста, не волнуйтесь: ясно, что ваша трактовка чересчур нова и свежа. Н. М.». Он старается использовать власть председателя, чтоб укоротить речь одного, не дать слова другому, оттенить с особым подчеркиваньем выступление доброжелателя2. Марр не объективен; он весь – пристрастие и страсть, и отдается порыву, бурно бросаясь с головой и без остатка в стихию борьбы. После диспута на него накидывается одна ученая дама, жена академика, и он едва не колотит ее. Резюмэ он пишет сам и читает сам, пуская в ход и ласковую дипломатию, и горячее бое-напряжение, чтоб только добиться квалификации. Атмосфера возбужденная, и по рукам ходит лист с подписями против присужденья.
Я ухожу одинокая, с записочкой Марра в руках. Но он остается там – продолжает кричать, спорить, возмущаться, резко жестикулируя и крича во весь, что у него есть, голос, со всей, что у него есть, силой души.
5
На другой день я поджидаю Марра в вестибюле одного Института. Вчерашний день разделил жизнь на две части. Марр дал оценку молодой научной работе. Марр видел, что мое сущее
1 Марр проводил защиту в славянской секции. «Фантастической» она названа лишь потому, что эта секция имела мало отношения к материалу диссертации.
2 Оппонентами коллегия института назначила самого руководителя работы Жебелева – сказывалось отсутствие закрепленной процессуальности, – эллиниста И. И. Толстого, латиниста А. И. Малеина, византиниста И. И. Соколова. Отзывы оппонентов были неблагожелательны. С развернутым одобрением работы выступил только И. Г. Франк-Каменецкий, в то время едва знакомый с Фрейденберг. Она вспоминала: «Уже несколько часов шла борьба неравных сил. Когда слово взял Франк-Каменецкий, я почувствовала страх... Эти – не были страшны. Страшен только он. Я собирала последние силы. Он заговорил. Он зачитал длинную цитату из моей работы, где за давались в сжатой форме все новые и принципиальные теоретические итоги. Он сказал: „Если б я прочел это десять лет назад, вся моя научная работа пошла бы по совершенно иному пути». Я ловила его слова – он выступал из публики, за моей спиной – и ждала, ждала удара. «Этот – тонкий, – думала я – И он подготовляет «однако...», и вот тогда пойдет!» Мучительно дожидаясь противительного перехода, я сидела спокойно, не оборачиваясь, и переживала плачущим сердцем все, все, что не пересказывается словами. Свою жизнь. Свои испытания. Крах порывов и надежд. Свою науку. И многое иное... Он говорил умно, светло, научно, всецело поддерживая меня. Марр счастливо и жадно слушал, весь – сплошное одобренье. И вдруг – И вдруг я поняла, что не последует „однако», что это друг, что эта высокая похвала – ко мне. Я поняла, что выиграла эту битву в каком-то очень большом и настоящем плане. Остальное меня не интересовало».
|
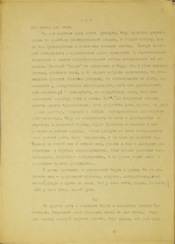 
|
|
ствование среди этих людей невозможно. Нас многое соединило* – не одна мысль, но и борьба. Я была беспризорна и беспомощна. Следовал какой-то простой и реальный вывод.
Показался Марр. Он подошел ко мне, что-то сказал задумчиво – и прошел. Никаких впечатлений от вчера в нем уже не было. Он жил в чем-то ином.
Я люблю человеческий портрет и узнавала Марра с восторгом. Я поняла в этот день, что ум у него отвлеченный и дальнозоркий и что очень близко лежащих перед ним предметов он без очков не видит.
6
С тех пор я виделась с Марром очень часто. Он принимал меня дома и в Публичке, иногда в ГАИМК'е. Однажды меня долго не допускали к нему в Публичной Библиотеке; когда я ему рассказала, он страшно рассвирепел и стал жаловаться, что чиновники хотят сделать чиновником и его.
– Приходите ко мне в Академию Матерьяльной Культуры – сказал он, – здесь вокруг меня создается бюрократическая атмосфера, и я случайно узнаю, что меня ограждают стеной.
Сказав это, он позвонил по какому-то номеру и спросил кого-то, когда будет Марр и можно ли его видеть. Каковы были ответы, я не знаю; но Марр начал кричать и ругаться в трубку, называя себя, – и тогда я поняла, что он звонил сюда же, в Библиотеку, одному из своих «охранителей».
Во время встреч Марр делился всеми мыслями и впечатлениями; дома он всегда читал свои последние работы. Его умственная щедрость была изумительна; его интимная откровенность и передача решительно всего прожитого им за последние дни текста жизни, со всеми ремарками и примечаниями, околдовывала. В один ряд, залпом и без оттенков, шел курсив рядом с петитом, события в разрядку и в скобках. Известно, что искренность – это
|
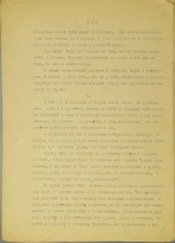 
|
|
талант; Марр был сделан из стекла и экспонировал себя сам как образец благороднейшей открытости, как редкий случай осуществлявшейся нормы, задуманной для подлинного человека. Ему можно было говорить все, что угодно, и держаться с ним максимально просто, потому что естественнее, чем Марр, уже не было человека. Но это естество Марра отдавало еще и колоритом, чем-то в корне анти-буржуазным; он был прям почти тропически, и что-то изнутри протягивалось от Грузии и Гурии, от лермонтовского Кавказа и Пиренеев, от Африки с готтентотами и от первого американского человека к этому пламенному и неровному стилю, к своеобразнейшему синтаксису мысли и чувства. Даже дипломатия, даже хитрость Марра, его насмешливый обиняк и сарказм носили характер чего-то красочного; а если приходилось Марру прибегать к неискренности, то она так и выглядела, как что-то неподлинное, вроде музыки к «Аиде», писанной Верди в кабинете; эта партитура лежала среди его лингвистических трудов на случай надобности, и он пользовался ею с обычной для него прямотой и открытостью. Что-то наивное* и простое было в Марре; его можно было надувать и надували, морочить – и морочили; но наивность была в его гигантском творческом уме, отмечавшая его особой отметкой среди людей его среды, которые казались умнее и ничтожней.
Он сам рассказывал мне, что почему-то некоторые люди позволяют себе говорить ему всякие пакости и даже кричать на него. Он считал для меня полезным, что я прошла суровую школу жизни еще в университете. «Это очень хорошо, – говорил он. – Очень жалею, что избаловал и распустил своих учеников. Вчера такой-то (следовала фамилия) кричал на меня и стучал кулаком по моему письменному столу...»
7
Марр предложил мне слушать его лекции. Я несколько лет посещала палеонтологию речи, слушала историю армянской литера
|
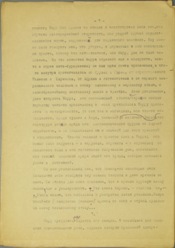 
|
|
туры, занималась у него грузинским языком. Курс палеонтологии речи привлекал наибольшее количество слушателей, хотя это и было сперва человек десять, максимум двенадцать. Читал Марр с 9 часов утра в «ректорском флигеле» и ни за что не хотел читать в самом здании университета: он страшно выходил из себя и кричал, что с этим зданием у него связаны воспоминания его гонений и обид. Нам было тяжко вставать так рано; мы приходили заспанные, темные, почти спящие, с полузакрытым вниманием. Печи ленились гореть, издавая сонное мокрое шипение; уборщица пряталась, кутаясь в какую-то неизвестность; грифельная доска стояла спиной и спала стоя, как лошадь. С убийственной аккуратностью появлялся сердитый Марр. С 6 часов ночи он уже был на ногах, успел за это время поработать и поволноваться; сонная атмосфера выводила его из себя, и он приходил черной тучей. Минут пять шло чтение лекции по аккуратно записанным листкам; вдруг лавина скатывалась, и Марр начинал делиться всем перечувствованным за нынешнее утро или за вчерашний день. Свежесть и доверчивость его восприятий была захватывающей; он рождался заново в мир каждый день и каждый час, реагируя на жизнь безотлагательно и в полной мере.
В аудитории он чувствовал себя в наибольшей близости к самому себе; как большой ученый, он умственно творил во время лекций; отстранял свою запись, возвращался к ней, держал в руках и не видел. Пафос записи говорит у Марра о том, как он объективирует жизнь и науку в слово; он записывал все свои выступления, все будущие экспромты, не позволяя себе импровизировать даже в самых незначительных случаях. Рядом с этим высоким академическим пафосом всю жизнь шествовала взволнованная речь как отклик на все и мельчайшие впечатления. В аудитории Марр раскрывался полностью. Ему особенно было присуще негодование; он негодовал на буржуазную лингвистику и на своих современников-формалистов, перескакивал зачастую* на поведение
|
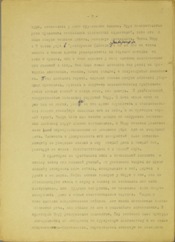 
|