|
отдельных лиц, сидевших у него на лекции, и всегда можно было опасаться, что он заденет кого-нибудь из присутствующих, называя его по имени. Во время устной речи Марр сыпал блестящими мыслями и сам не замечал, как эти мысли отлагались в парадоксы и афоризмы. После лекций его обступали и задавали ему вопросы; однако в этой части Марр был менее интересен, так как его умственная душа лучше всего раскрывалась в общественных формах, в аудитории во время лекций.
8
Мои занятия древнегрузинским языком были очень и очень своеобразны. Этот язык меня мало интересовал, если не считать иллюзии ознакомления с Шотой Руставели. Но Марр настаивал. Этот древнегрузинский язык был горнилом, через которое должен был пройти каждый его адепт. Пришлось погрузинить и мне, – к тому же отдававшей в то время все силы санскриту1. Я поняла свою задачу так: не в данном языке была для меня сила, а в лингвистической подаче Марра. И так как уже тогда я делалась близорукой, то, ничтоже сумняшеся, записывала примеры Марра в русской транскрипции. Учеников было трое, из них один – проф. Обнорский, к которому Марр был очень внимателен2. Мои цели при слушании этого курса были непонятны ортодоксальной части этой группы; эта русская проклятая транскрипция легла первым камнем в фундаменте преисподней, воздвигнутой против моего яфетического легкомыслия последующими догматистами. А пока что, после урока, Марр ругал именно их за «преданность без научных работ». Эти выстрелы в лицо практиковались очень часто. Марр, подобно античной сатире, не стеснялся саркастически бичевать своих близких, как и дальних, в глаза и за глаза, по имени и прозрачными намеками.
Лингвистический комментарий Марра и его подача языка были единственными, какие я встречала и тогда и после. Это был
1 Учителем Фрейденберг в этом предмете был знаменитый Ф. И. Щербатской.
2 Будущему академику С. П. Обнорскому тогда было едва за тридцать. Из старых профессоров и вообще из старшего поколения с яфетической теорией в 20-е годы связывали себя всего несколько человек; так, лекции по палеонтологии речи посещали одно время И. Г. Франк-Каменецкий, Л. П. Якубинский, К. Д. Дондуа и др.
|
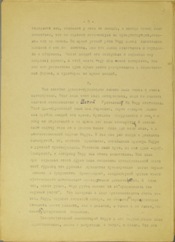 
|
|
исключительный пример не филологического, а лингвистического анализа. Все языковые формы получали объяснение; не было ни единого слова, ни единой части слова, которое не было бы рассмотрено аналитически, под углом зрения больших принципиальных установок; грузинский язык приносил выводы для всех мировых языков.
Марр вызывал нас всякий раз по очереди и заставлял читать, переводить и объяснять языковые формы. Он был прекрасным методистом и мастером обученья; говорил он в семинаре мало, много требовал, занятия вел уверенно и с большим деловым увлечением. Снижение учебного пафоса встречало у него суровый отпор; ничего «домашнего» не терпел этот профессор, такой добродушный и доступный в обиходе.
Разговоры начинались после занятий. Однажды, как и всегда, он жаловался на одиночество. Мы приводили имена его новых последователей.
– Да*, да, – говорил Марр.- Все это хорошо. Ученики. Знаю этих учеников. Идут до известного пути. А потом изменяют.
9
Наименее ярко проходили лекции по армянской литературе, чтение которых было вполне ординарно. Я их слушала, потому что все, что читал Марр, я готова была слушать. Теория и личность Марра находили во мне страстное признание. Я почитала и поклонялась этому пламенному уму, готовая отдать для него все свои научные силы. Я восхищалась его прямотой, его творческой мощью, свежестью его гения, его диапазоном. Все, что говорил Марр, получало для меня особо высокое и глубинное значение. Я его понимала. Все мне было близко и находило научный отзвук; даже его слог казался мне достаточно простым и вполне понятным; его поведение и образ мыслей – единственно правильными. В этом понимании, в этом почитании, в этом безудержном восхищении
|
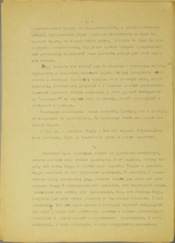 
|
|
самой высокой пробы был для самой меня, однако, опасный момент.
Еще в самом начале двадцатых годов я пришла совершенно самостоятельно к такой же постановке проблемы о генетической значимости сюжета, как и яфетидология; но проблемы, которые меня интересовали, уводили к поэтике, а материал мне давали жанр, композиция, сюжет. Можно себе, поэтому, представить, какое значение имело для меня учение Марра: это была родная стихия, и никаким колебаниям и неверию, тем более, «изменам» и «отреченью» никогда не могло быть места1. Кроме того, и выводы мои, и метод работы, и все, вообще, то, что считалось моей чистейшей фантазией и доброй волей, получало научное оправдание и нужность. Теперь я с особой страстной жадностью набрасывалась на теорию Марра; я не могла нарадоваться своей судьбе, которая мне позволяла жить и работать рядом с Марром. Естественно, что я рассказывала Марру обо всем, чем научно жила; он не выносил формального литературоведения, но охотно выслушивал, когда я фантазировала перед ним о своих работах и перспективах, которые открывает новое понимание сюжета и генезиса литературы. Марр знал, что я никогда не откажусь ни от самостоятельности, ни от желания следовать своим интересам. Но был момент, когда он упорно настаивал на моих занятиях грузинским языком и интересовался ими больше, чем я того хотела. Беда заключалась для меня в том, что я и сама не могла устоять против воздействия на меня Марра и готова была совершенно добровольно заглушить в себе все интересы и отказаться от самостоятельного взгляда на вещи2.
В течение некоторого времени я стояла на распутье. Но все больше и больше меня затягивала работа над «Поэтикой»3, к которой я перешла сейчас же после защиты «Романа». Я не могла обманывать ученого, перед которым преклонялась. Он должен был признать,
1 Еще в 1925 г. в письме к коллеге Фрейденберг писала: «Марра я понимаю глубоко, органически; когда я его слушаю, у меня волнующее сознание, что я его понимаю всем своим умственным складом, всем мироощущеньем своей умственной души, что я рождена быть его ученицей и адептом. Я ни с кем не чувствую себя так свободно и духовно легко, как с ним, чего мне не прощают „шаляпинистки», поклонницы Иафета. В то же время я прекрасно понимаю, что он как творец сосредоточен только на яфетизме. Ему не нужно ничего, кроме слепого последованья его теории: в этом его красота как основоположителя. Не поймите меня банально: да, слепота ему мила, самостоятельность докучна, и ему нужно удобренье, покорная и восторженная стихия сектантства и фанатизма; ему нужен лить он сам, он в учениках, он в матерьяле, он в методе. Гений – это конденсатор. Нельзя к нему прилагать мещанской морали, – я не осуждаю его, а восхваляю. Для меня же всякая революционность подлинна только в своей области. (...) Я не мыслю ни иных форм почитания, ни иных путей соучастия, кроме органических внутренних. Подражателем и „последователем» я быть не в состоянии». «Измены» и «отречения», о которых говорит Фрейденберг в Воспоминаниях, лежат для нее в иной плоскости, нежели расхождения в научных вопросах. Время показало, что слова о невозможности измен и отречении были сказаны ответственно: когда в 1950 г. марровцы «увидели всю порочность того теоретического пути, по которому шли наши исследования» (Мещанинов И.И. Письмо в редакцию газеты «Правда». – Правда. 04.07.1950), Фрейденберг в своем выступлении «По поводу языковедческой дискуссии» (30.07.1950) говорила о том, что она поддерживает в марризме и что в свое время она с убежденностью пришла в марровский лагерь, где кипела живая творческая мысль. А на рукописи «Лекций по теории античного фольклора» ею была оставлена следующая запись: «Критика теории Марра. которого я глубоко уважала, вызывалась чисто научными причинами. В разгар насильственного насаждения его теории я не могла предполагать, что последует за 1950 годом».
2 Признавая свое ученичество, Фрейденберг все же делает попытку заявить о своей самостоятельности: «Мне легко показать, – писала она, – исходя из хронологии работ Марра. свою полную самостоятельность. Но я ни одного года не прожила в свободной научной обстановке. Авторитет Марра и ортодоксальность его фанатичных учеников частью сбивали меня, неопытную, с толку, а частью давили и терроризировали. Но внутренне я очень скоро сбросила с себя всякое принуждение. Именно потому, что я встретилась с Марром с самостоятельной параллельной работой, я ценила, уважала и понимала Марра и органически не была в состоянии изменить ему. Марровское толкование имен Атенэ-Этаны, сделанное в 1924 году, имело предшествие в моей „Одиссее», где я устанавливала то же самое в 1922 году на сюжетном материале [Имеются в виду работа Марра «Смерть-преисподняя в Месопотамско-Эгейском мире» (Доклады Академии наук, 1924) и экстракт с опозданием опубликованной работы Фрейденберг: Сюжетная семантика Одиссеи Язык и литература. Т. 4. Л., 1929. – Н. Б.]. Открытая мною область сюжетосложения была вобрана Марром и влита в его общее учение о семантике слова и „речевой культуры». Его „Иштарь» вышла в 1927 году, а „Из поездки к европейским яфетидам» в 1925 году, „Смерть-преисподняя» и „Первый средиземноморский дом» в 1924 году [См.: Марр Н. Я. Иштарь. От богини матриархальной Афревразии до героини любви феодальной Европы Яфетический сборник. Т. 5. Л., 1927; он же. Из поездки к европейским яфетидам Яфетический сборник. Т. III. М.-Л., 1925; он же. Первый средиземноморский дом и его яфетические названия, у греков megaron, у римлян atri-um Известия Российской Академии Наук. 1924. С. 225–236 – Н. Б.]. Этим я хочу сказать, что с точки зрения объективной истории науки те выводы, которые я делала совершенно самостоятельно до знакомства с Марром и опубликовывала в 1923/34 годах, не могут быть от меня отняты только оттого, что и Марр опубликовал их в 1924 году. Между тем, весь мой труд тонул в Марре, а сама я причислялась к его ученикам. Впрочем, и тогда и потом мои достижения считались принадлежащими не мне, а марризму; напротив, все мои недостатки всегда приписывались мне одной. И сюжетология, и все, что я делала, шло на потребу Яфетического Института, где я работала даром. Конечно, это было огромное счастье, что я получила среду, полное понимание, друзей, горячее биение научной жизни, атмосферу большой науки. Но трагедия, которая вытекала для меня отсюда же, еще не была мне видна».
3 Речь идет о единственной прижизненной монографии: Поэтика сюжета и жанра (период античной литературы). Л., 1936. В период работы над «Поэтикой сюжета и жанра», предшествующий времени написания Воспоминаний, Фрейденберг вполне осознала двусмысленную роль, какую сыграл Марр в ее научной судьбе. «Во мне накипело в душе от Марра. Чем влиятельней он становился, чем насильственней он заставлял принимать свое учение и подлаживаться под политику, тем громче поднимался во мне негодующий протест. Я желала сбросить с себя гнет его имени, тяготевший над моей научной индивидуальностью: мне надоело терпеть гонение за недостатки его теории и отдавать в его приходную книгу свои научные достижения. Его клика, его камарилья, ничтожества, выдвигавшиеся им в ущерб науке, его недоступность, вырождение былых ею взглядов и привычек, партийная лесть и деспотизм – это все раздражало меня, вызывало во мне стыд, и я хотела отмежеваться от марризма. Столько лет борясь за Марра, я боролась за передовую мысль и ее независимости; теперь я видела, что она сама стала деспотичной, нетерпимой, неумной. Марр начал с расизма [»Расизм» применительно к учению Марра имеет совершенно специфический смысл. Начав с установления параллелей между грузинским языком и семитическими языками, Марр предположил для яфетической (грузинский, эламский, халдский) и семито-хамитской ветви общий праязык, которому соответствуют прараса и прародина. Постепенно Марр расширил семью яфетических языков, представляя их субстратом языков Средиземноморья. Но уже в 1923 г. Марр решает, что так называемые «расовые» языки (яфетические, индоевропейские, семитические) представляют собой только различные стадии в развитии единого языкового процесса. С этого времени «расизм» сменяется «палеонтологией речи», т. е., изучением доисторического состояния языка и закономерностей глоттогонического процесса на фоне диахронически изучаемой материальной культуры и социальной истории. Фрейденберг считала наиболее ценным у Марра те его исследования, которые находились методологически еще в русле традиционного языкознания, хотя им сопоставлялись и языки, считавшиеся неродственными. В настоящее время сравнительное языкознание оперирует значительным числом изоглосс, связывающих общеиндоевропейский с общекартвельским и общесемитским, наличие которых объясняется культурными контактами – Н. Б.] – и его „яфетический» период был самым блестящим и последовательным. „Четыре элемента» (см. статью И. М. Дьяконова, с. 180), порвав с расизмом, завели в теорию архетипов, если не мистики. Они как научная теория не умны и не красивы. Ввязываясь в разрешение всех наиболее важных вопросов. Марр понимал происхождение искусства по Веселовскому. Он думал выкарабкаться при помощи теории стадиальности; но какая она плоская, философски бедная, мещанская!» Фрейденберг делала попытки заявить о своем особом, неортодоксальном положении среди «друзей нового учения о языке», написать в предисловии к «Поэтике», что «путь отсутствия самостоятельности не всегда единственный для прихода к его (Марра) школе»; более десяти раз редактор возвращал текст предисловия: «Мне не только нельзя было высказать того, что накипело, и сбросить насильственное имя „ученика» Марра, но с меня требовали полного отказа от своего научного лица в пользу Марра и его школы. Полемизировать с Марром запрещалось, да я и не хотела этого, признавая только позитивную критику, путем своей собственной работы».
|
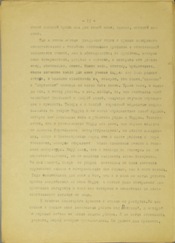 
|
|
что занятия грузинском языком для меня несерьезны* и что у меня есть другая область работы, более значительная, которую я не собиралась предпочитать грузинскому языку – увы! – в русской транскрипции...
10
В жизни Марра была одна большая трагическая линия, которую он сам так выделял, что нельзя о ней не сказать. Марр плохо видел людей; как очень чистый человек, он был слишком доверчив. Марр часто отдавал предпочтение каким-то случайным людям, явно шедшим не по пути с ним; он привязывался на непонятным поводам, обрекая свое чувство на совершенно неминуемое разочарование. И драма Марра заключалась в том, что его страсть была пропорциональна его уму: не видя человека в начале, он неизменно и горестно распознавал его в конце. Вкладывая бездну чувства в явно несостоятельного человека, Марр спешил провозгласить его своим учеником, своим научным наследником, творцом новых научных ценностей, цитировал его, возносил его посредственное подражательство, привлекал к нему общественное внимание. Но наступал день, и этот человек либо отрекался от него, либо предавал за спиной; Марр прозревал, ужасно мучился, громко всем рассказывал. Это была одна из его постоянных тем. Еще хуже, что он не замечал, как такая щедрость чувства смыкала вокруг него кольцо, и этого человека, исключительного по широте взглядов и по огромному общественному пафосу, замыкала в атмосферу кружка и мелкого фанатизма. Погоду делал не Марр. И он узнавал о людях и о работах не из прямого источника, а через живой транспарант, почти всегда ненадежный. Разочарованный в любимейших людях, доверчивый к выражениям преданности, на которые не каждый решался, Марр громил равнодушных, жаловался на одиночество и упрекал тех,
|
 
|
|
кого он считал своими учениками.
11
Однажды Марр подошел ко мне и предложил войти в состав открывающейся секции сюжета и мифа в Яфетическом Институте1. Председателем был приглашен В. Ф. Шишмарев. Незадолго до этого Марр устроил меня в пресловутый ИЛЯЗВ (Институт языков и литератур при Университете). Произошло это так. Я оказалась после защиты на улице. Никакой работы мне не давали; одно время в Университете преподавали все ленинградские классики, большинство из них – без научной квалификации (степени). Процедуры на Бирже Труда были очень тяжелы. Первым человеком из академической среды, подавшим мне руку помощи, был В. В. Струве. Он познакомился со мной и рассказал, что в Париже вышла книга Сентива, показавшая правоту моего «Греческого романа»2. Это меня разволновало. Я пошла поделиться чувствами с Марром, как делала это всегда. Он* слушал вдумчиво и душевно. У меня нарастало большое возмущение против Наркомпроса, который отдает молодых ученых на растерзание. Я сказала, что напишу Наркомпросу Луначарскому ругательное письмо. Марр горячо поддержал. Письмо я отослала. Прошло много времени. Однажды вечером ко мне приходит на дом один из учеников Марра и заявляет, что его прислал Марр сказать мне, чтоб я шла за жалованием в ИЛЯЗВ, куда зачислена месяц тому назад... Я звоню Марру, он вызывает меня в 12 часов вечера к себе домой. Оказывается, Луначарский передал письмо в Главнауку3, а Главнаука запросила о хулигане Марра, Марр же дал обо мне наилучший отзыв.
– Тогда мне предложили дать вам службу, – сказал, улыбаясь, Марр. – Я же рассмеялся и ответил: «Если бы нужно было устраивать на службе, я давно устроил бы ее в Публичной Библиотеке. Но ей нужен исследовательский Институт». Главнаука предложила мне ввести вас в ИЛЯЗВ. Там не было штата. Я поехал в Москву и привез штат. Но не хотел сообщать вам.
1 В начале 1926 г. был организован сектор (палеонтологической) семантики мифа и фольклора, председателем которого был весьма далекий от марризма В. Ф. Шишмарев; в работе сектора принимали участие В. В. Струве. Б. В. Казанский, М. С. Альтман, И. Г. Франк-Каменецкий, И. И. Мещанинов и др.
2 Книга, о которой говорил В. В. Струве, это, скорее всего, опубликованная в 1922 г., но в Петроград попавшая с опозданием: Saintyves P. Essais de folklore biblique. Magie, mythes et miracles dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Р., 1922. Слова Струве были тем более важны для Фрейденберг, что после скандальной защиты она, как видно из дальнейшего, оказалась в полной изоляции и искала себе работу, обращаясь, на биржу труда. Вскоре исследование о романе получило лестный отзыв мирового авторитета в христианистике А. Гарнака (ему было послано резюме на немецком языке), а в 1927 г. вышла знаменитая книга Карла Кереньи, пришедшего ко многим аналогичным «Происхождению романа» выводам (Kerenyi K. Die Griechisch-Orientalische Romanliteratur in religionsgeschichtlicher Beleuchtung. Tübingen, 1927).
3 Главнаука – отдел Наркомпроса.
|
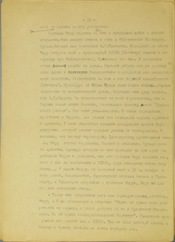 
|
|
А сообщать Марр не хотел из деликатности и трогательной дипломатии: он знал, что я не хочу работать с тамошними людьми, и потому зачислил меня тайно, месяц назад; по прошествии месяца, считал он, я уже не откажусь «за давностью».
Однако я колебалась. С кем я смогу там работать, спрашивала я Марра, если его сотрудники плохо ко мне относятся без всякого, как мне кажется, повода с моей стороны?
– Не обращайте на них никакого внимания,- отвечал он, – это из ревности и от сумасшествия.
Мне казалось бестактным отказываться дальше. Я искренно поблагодарила Марра и обещала работать с ним и для него.
Не узнал никогда Марр, что за его спиной штатное место в ИЛЯЗВ'е было поделено на двоих и что мне платили 24 р. 50 к. в месяц...
Зато и я не знала, но узнал от моих друзей Марр, что в 1927 году, как только я закончила «Поэтику», ИЛЯЗВ меня выставил за отсутствие продукции. Марр немедленно отправился в ИЛЯЗВ и в страстной форме обрушился на заправил; дебош был такой, что к вечеру я была восстановлена, и особа, съедавшая мою ставку, продолжала за спиной Марра благополучно служить науке.
12
Во вновь открытой секции Яфетического Института было прекрасно работать. Там было несколько человек различных специальностей, но серьезно работавших. Направление работ в этой секции далеко не было яфетидологическим; но атмосфера научная, культурная и спокойная. Марр не посещал заседаний и мало ими интересовался1. Мы ставили много докладов, и научный пульс бился живо. Я работала, как изголодавшийся человек, с огромным подъемом и любовью. Встречи с Марром продолжались*. Я следила за его работой по-прежнему и посещала
1 В своих мемуарах Фрейденберг пишет: «Марр никогда не бывал на занятиях своего института. Он всегда где-то заседал, верней, показывался. Гоняясь за популярностью и желая слыть общественником, он отказывал научным занятиям в своем присутствии и руководстве, но сидел на собрании „по борьбе с хулиганством». Вечно думая об одном, о своей теории, на покупал внимание власти своей бутафорской „общественной деятельностью»«.
|
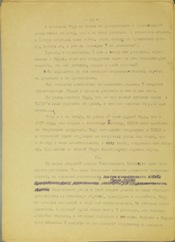 
|
|
лекции по палеонтологии речи. Однажды под влиянием его рассказов о гонении я сказала после лекции:
– Николай Яковлевич, вы должны непременно написать автобиографию!
Марр сильно разволновался и со смехом погрозил мне пальцем:
– А! Вы играете на самой слабой моей струнке!
В Марре, действительно, автобиографический поток был очень силен. Как крупного человека, его характеризует эта высокая лирика, эта потребность всюду и везде рассказывать о себе, вычерпывать себя, объективировать все личные переживания в научном и просто лирическом рассказе. Он наполняет собой все свои научные труды по лингвистике, все свои академические лекции, все и по всякому поводу выступления. Это не мания, не тщеславие, не себялюбие: это непреодолимый позыв к самораскрытию, совершенно аналогичный тому, который делает из людей поэтов.
13
Ученые потомки, которые будут интересоваться Марром, и будущие создатели исторического романа, пожелающие вывести крупного ученого одним из действующих лиц современной нам эпохи, обратятся ко всем нашим воспоминаниям и по ним станут восстанавливать Марра-человека. То, что его выделяло, – это его общая необычность, отсутствие условностей в его личностной компоновке. Он не был заказан. Неожиданность его облика сказывалась в нарушении масштабности: он был прозорливей, мощней в смысле творчества и работоспособности, чем другие люди, наделен более сильными страстями, был честолюбивей и кротче, с могущественной тягой к властности, с гораздо более кривой линией, чем это полагается для ординара, благородства и тщеславия, преклонения перед величайшими ценностями науки и общественности рядом с любовью к мишуре и сусальной позолоте. Он был доверчив, наивен и
|
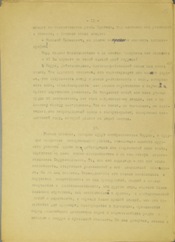 
|
|
свеж, как дитя бедняка; любил новизну и новых людей, как легкомысленная женщина; ему импонировали имена и титулы, которые он презирал. Богатство и неорганизованность сил делало Марра непредвиденным в обращении и заставляло многих людей его бояться. Никогда нельзя было угадать, как он отнесется к тому или иному факту. В то же время он был добр, и кроток, и доверчив, и благожелателен. Его ум не был дискурсивным; Марр был очень похож на самого себя, и его творчество, его характер, ежедневное поведение и стиль статей были совершенно одинаковы. В его теории огромную роль играла практика; но он шел не от эмпирики к умозрению, а его умозрение было насквозь материально, и научный пафос Марра был конкретен, поддавался ощупи, лежал в материале. Марр мыслил не в процессе думанья, а в процессе материальной* работы, мыслил материалом, а не отвлеченными и схематическими построениями. Он не был мыслителем; обнаженная идея была ему чужда. Он не был «интересным человеком» или глубокой личностью, и едва ли с ним можно было говорить на общие и широкие темы. Но это был человек великой умственной страсти. Он весь, с совершенно исчерпывающей силой, был отдан единой творческой мысли – только одной своей теории. Бодрствование – была стихия Марра. Он умственно работал весь день и почти всю ночь; сон едва его касался, забвение ему не было знакомо. Он почти не спал и на заседания приходил вялый, сонный – по виду; он садился за стол и засыпал, но потом вдруг начинал говорить, и оказывалось, что он все слышал и бодрствовал.
Где бы Марр ни находился – на улице, на заседании, на общественном собрании, за столом, – он всюду работал мыслью над своим учением. Его голова всегда была полна языковыми материалами, и он ошарашивал встречного знакомого, вываливая ему прямо и без подготовки пригоршню слов и только за секунду перед тем их вскрытых значений. Он ехал на извозчике – и умственно работал; он слушал чужой доклад и тут же на бумажке делал свои выкладки.
|
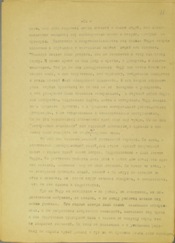 
|