|
с* одними и теми же свойствами; всегда есть дурак и всегда есть трус, непременно появляются скупцы и обжоры, брюзги и болтуны, хвастливые лжецы, мешающие всем забияки. Как и у Аристофана, это не характеры и не типы в нашем смысле – это просто маски-образы, маски-свойства, лишенные этического содержания. Они существуют с незапамятных времен; их можно найти у всех древних народов и в балаганном репертуаре народов европейских; в примитивном театре нецивилизованных; в международном кукольном театре. Что между балаганом и оформленной греческой философией нет никакой связи, бесспорно. Но если так, встает вопрос: всегда ли «характер» имел этическое содержание?
В ряде статей, идущих в последнем отделе этой книги, выясняется, как свойства, выводимые Теофрастом, первоначально значили совсем не то, что впоследствии. В ходе исторического развития каждое понятие, а потому и выражавшее его слово, меняло свою значимость. В самые первые эпохи человеческого общества в поле зрения общественного сознания попадает только внешняя природа, затем внешние предметы; человек обращает внимание на цвет, на поступь, на физические черты лица и наружности. Но и это он замечает уже тогда, когда начинает интересоваться человеком, то есть довольно поздно. Первым объектом наблюдения человека служит не человек, а производственное животное. Уже с животного переносит человек свое наблюдение над человеком же. Первые свойства, первый характер подмечены у животных. Первым действующим лицом фольклора является животное. Переход от животного персонажа к человеческому совершается с помощью перенесения наблюдения с животного на человека в форме сравнения. Герои Гомера сравниваются с животными; но не только в греческом эпосе – и в греческой древнейшей лирике люди еще уподоблены животным. Это еще не есть отрицательная черта; когда нужно изобразить отрицательный персонаж, это достигается тем, что ему приписывается уродство. В эпической литературе, которая создается на стыке разложения родового и возникновения классового обществ, отрицательные свойства персонажа выражаются в его физических природных недостатках, и поведение человека – только развернутая значимость этих природных качеств; какова наружность, таков и сам человек. В ямбической (смеховой и насмешливой) лирике портрет строится на комическом уподоблении животному, и тем создается отрицательная характеристика.
Стандарт животного типа соответствует в дальнейшем стандарту маски. Не только в басне, но в поэзии и драме каждое животное – носитель определенного свойства, которое числится за ним раз навсегда. Это не позднейшая, нарочито придуманная басенная черта, а наиболее древнее осмысление природных качеств, присущих как раз животным. Отсюда, первая маска – это маска звериная; первый портрет и первая классификация этих портретов, как классификация, известных природных свойств – относятся к миру зверей. Создается, параллельно животному и метафорически-животному персонажу в художественной литературе, особый вид науки, раскрывающий природную внутреннюю значимость звериной наружности. Эта
|
 
|
|
наука* гнездится в недрах философии, конечно, граничит с этикой и разрастается в примитивную, псевдонаучную дисциплину, не так далеко уходящую от психологии. Она называется физиогномикой, наукой, определяющей характер по внешним физическим чертам; ей отдавали дань многие философы, до Платона включительно, а у Аристотеля физиогномике отводится большое место, настолько большое, что под его именем ходит и любопытнейший физиогномический трактат. Это своеобразная звериная психология вполне естественно обращается в психологию человека; однако основной прием остается одним и тем же, и физиогномика делает установку на характер человека, выраженный в его внешних чертах, причем эти черты продолжают рассматриваться, в большинстве случаев, по аналогии с животными. Физиогномика изучает лицо человека, цвет волос, форму и цвет глаз, величину и форму носа, тип бровей, рта, зубов, ушей; она изучает рост человека и его комплекцию, тип голеней, ноги и пальцев, иногда вплоть до ногтей. Все эти физические черты типизированы, конечно, напоминая маску; каждой черте соответствует тип характера. Язык физиогномических работ описательно-прост, сжат, лишен всяких литературных прикрас, отрывист и краток до лаконичности: это особый стиль полу- и псевдо-научных трактатов, в своей простоте, отрывистости и краткости производящий впечатление почти чего-то таинственного и требующего особой расшифровки. Здесь, в физиогномике, подлинные истоки науки о характере, как о сумме конкретных человеческих свойств, проявляющихся конкретно, физически. И если этика – наука об отвлеченных свойствах и об отвлеченных носителях этих свойств, то физиогномика – наука о конкретной стороне характера. Ее человек – это типизированное животное более высокого порядка, это маска, такая же маска стандартных наружностей и соответствующей им психической значимости, как и в комедии, где каждому характеру соответствует определенная маска. С IV в. физиогномика занимается, главным образом, дурными и порочными характерами; здесь можно встретить не только весь балаганный, фарсовый и комедийный персонаж, но решительно все свойства и характеры из Теофраста (непроизвольно, конечно), и каждое такое свойство, каждый характер окажется маской определенных черт лица, роста, фигуры.
Итак, первоначальный характер – это сумма типовых физических свойств; характер – это наружность. И наружность зверя, а не человека. И вот почему в VII в. до н.э., в архаической поэме Симонида Старшего, первыми характерами людей наделяются женщины – эти, по представлению рабовладельцев, примитивные существа, переходные от животного к человеку. Мужчина еще не может в ту эпоху обладать «характером»: им наделяется, кроме женщины, отрицательный типаж эпоса, а в драме это раб, получающий маску уродливой наружности. Но маска, как наружность, и есть характер; одно неотделимо от другого.
5
Этика и комедия строят одинаковый типаж в силу одинаковых идеологических предпосылок. Такой же параллелизм существует
|
 
|
|
между* физиогномическим и гомеровским портретом в эпосе, симонидовским в лирике. Но какой путь проделал характер от Гезиода, с его обрисовкой нравов пяти поколений, и до Теофраста! В художественной литературе действующие лица, перестав быть богами и героями, стали ко второй половине V века людьми, и произошло это только в политической комедии типа Аристофана, да, может быть, в миме Софрона, потерянном для нас. Одновременно, со времен софистов, и философия спускается от божества к человеку. Интерес к человеческой психике переживает особый рост у трагиков и философов, создающих системы этики. Натурализм IVв. выдвигает проблему характера, как сумму будничных свойств «бытового» человека. Психический анализ углубляется за пределы наружности, внутрь аффектов. Аристотель так же анализирует в философии страсти людей, как Еврипид это делает посредством художественного метода. Две линии продолжают итти параллельно. Одна – это выросшая из физиогномики наука о характере человека, как о свойствах души, проявляемых уже не в наружности, а в поступках и в словах. Другая – это литературная комедия, выросшая из балагана, комедия нравов, типа, характеров; веком позже к ней присоединится мим Герода, а в римскую империю – роман Петрония. Под каждым характером, в философии или в художественной литературе, прощупывается стоячая маска. В народном фарсе, как и в физиогномике характер еще продолжает пониматься поверхностно и чисто-внешне: фарсово-балаганный типаж, комедийный типаж, носит маски на лице и имеет атрибуты наружности, соответствующие тем, которые являются физическими чертами характера в физиогномике. Это трусы, болтуны, шуты, обманщики, деревенщины, хвастуны не в этическом смысле, а в масковом; анализ показывает, что «трус», «болтун», «дурак», «скряга» и пр., как понятие и термин, некогда имели иной смысл в еще племенной, доклассовой драме. Когда же эти трусы, хвастуны, дураки, болтуны и пр., появляются у Менандра, они качественно иные, не те, что в балагане; здесь это характеры и типы в социальном значении, в значении психологическом, хотя маска и очень дает себя знать. Так и Теофраст, давая характер в этическом смысле, срисовывая своих реальных современников, формально зависит от стоячей физиогномической маски, ставшей маской психической.
И две линии, не пересекаясь, идут рядом и дальше. Теофраст описывает тридцать характеров, а из ряда сохранившихся названий греческих комедий мы знаем, что были такие, как Хвастун, Ироник, Брюзга, Недовольный судьбой, Деревенщина, Невер, Суеверный, Злолюб, Льстец, Женоненавистник, Хлопотун и мн.др., номенклатурно совпадающие с «характерами» Теофраста.
6
Итак, для Теофраста каждый человеческий характер – это сумма душевных свойств, проявляющихся в поступках и словах. Так он почти каждое описание и начинает: прежде всего идет отвлеченное определение свойств в духе Аристотеля. Здесь, в этих опре
|
 
|
|
делениях*, нужно оценить их этическую подачу: прогресс, по сравнению с физиогномическим и симонидовским портретом здесь в том, что характер рассматривается, как сумма психических свойств, а внешнее проявление характера как выражение этих свойств души в поступках и словах. Прогрессивны и эти «поступки и слова», так как они уже заменяют маску наружности. В этих определениях Теофраст вполне ученик и последователь Аристотеля. Но вот нужно дать и самые «поступки и слова». Идет иллюстративная часть, рассказ, в котором человек показан, как носитель данного свойства; его слова и поступки приводятся для того, чтоб демонстрировать проявляемое в них душевное свойство. Таким образом, и человек, как конкретно ни подает его Теофраст, еще лишен в «Характерах» индивидуальности; это только пример, типовой случай для вскрытия отвлеченного свойства. Теофраст, изображая группу болтунов, группу скаред, группу негодяев и т.д., вносит сюда довольно тонкие отличия, которые могут быть приняты за шаг вперед по направлению к индивидуализации. Это большой прогресс по сравнению с физиогномикой, но преувеличивать его нельзя; человек, как личность, еще не виден в рабовладельческом обществе ни художнику, ни ученому.
Показывая душевное свойство в поступках и словах, Теофраст, прежде всего, уже в начальном определении, дает моральную оценку этому свойству: он различает, приносит ли такое свойство вред окружающим или одну лишь неприятность, а также, не влечет ли оно выгоды для его носителя или, напротив, совершается бескорыстно. Нравоученья чужд Теофраст; это не буржуазный моралист-резонер, а греческий ученый, преувеличивающий цену бесстрастного стиля. «Поступки и слова» требуют от Теофраста, чтоб он поставил характеризуемого им носителя свойств в ряд конкретных положений. Как натуралист IV века, Теофраст вводит в «Характеры» бытовой материал «поступков и слов». Носитель свойства показывается на улице, в публичном собрании и дома. Каковы же, в основном, поступки Теофрастова персонажа? Взыскивание процентов, ростовщичество, торгашество главным образом; на этом фоне расцвечивается та или иная деталь. Носителями отвлеченных душевных свойств, живой иллюстрацией морализуемых абстракций являются, однако, низшие и средние прослойки рабовладельцев – торговцы и ростовщики, прихлебатели, площадной люд, содержатели игорных притонов и подозрительных гостиниц, крестьяне-кулаки, спекулянты, сборщики податей. Отдельную группу составляют состоятельные люди и бывшие аристократы. Теофраст, поддерживающий связи с македонской верхушкой, изображает одинаково отрицательно представителей разбитой земельной аристократии и демократов, сторонников утраченной политической свободы. Для античной науки характерно, что Теофраст совсем не изучает ни женщин, ни рабов – того персонажа, который служит такой «богатой пищей» вульгарно-реалистической комедии, миму, новелле: ни женщина, ни раб не могут служить этической нормой. Научный характер портретов Теофраста подчеркивается еще и тем, что они имеют общую структуру, которая придает им как бы методическое единство. Почти
|
 
|
|
во* всех «Характерах», вслед за определением отвлеченного свойства, идет показ человека, взятого на улице, на рынке, у себя или в гостях, за столом, в бане. Ситуации, поэтому, иногда повторяются; о манере носить плащ или отдавать платье в стирку, об отношении к соседям или к своему добру мы узнаем не один раз.
Язык Теофраста очень сжат, прост, краток, обрывист, напоминая язык физиогномистов; значение слов, хорошо нам знакомое по классической эпохе, настолько у него снижено, что часто нельзя узнать, что оно означает. Много слов из обихода нам и вовсе незнакомо. Все это делает перевод «Характеров» необычайно трудным; его фразы проходится развертывать, и тогда они теряют колорит, а в сжатом виде они лаконичны и комкообразны. Перевод сознательно сохраняет эту шероховатость языка. Художественной, стилистической отделки Теофраст не признавал никакой; его легко узнать по одним и тем же упорно повторяющимся словечкам и терминам, по исключительной небрежности к языковой форме, к нагромождению рядом стоящих глаголов или одинаково звучащих слов. Строгость, сугубая трезвость, безукоризненная простота и какая-то нарочитая неприкрашенность делают стиль Теофраста несколько наивным, наивным по средствам научной объективации; этот шарадообразный небрежный язык конспективного характера принимался даже за язык какого-нибудь позднейшего пересказчика. Еще большую трудность представляет рукописное чтение «Характеров», дошедших в очень плохом виде.
Отсутствие у Теофраста нравоучений и сентенций расхолаживало позднейших читателей. Вскоре к «Характерам» было прибавлено вступление, якобы, от имени Теофраста, а к некоторым из них и концовки нравоучительного содержания. Как вступление, адресованное к какому-то Поликлету, так и сентенции-концовки резко изобличают свою подложность: они писаны ходовым литературным языком, по всем стилистическим правилам, и вносят острый диссонанс в язык «Характеров», разрывая стиль Теофраста.
Большую трудность представляет перевод заглавий «Характеров» и названий свойств. Их значительная часть не соответствует тому, что мы сейчас под этими словами понимаем. Все же принцип перевода был таков, чтоб довести Теофраста до советского читателя в строго-научном, то-есть в подлинном виде, – чего дореволюционный читатель ни разу не имел. Самый перевод сделан по изданию Фосса, наиболее остроумному, а отдельные расхождения с ним оговорены.
Но проблематикой не исчерпывается интерес к Теофрасту. В «Характерах» масса жизни, масса бытового материала, уйма греческого запаха. Это тмин и чеснок, та красочная проза, которую мы умеем любить. Теофрастовский персонаж доставляет нам удовольствие своей сочностью, как фламандские портреты или натюрморты. Мы отдыхаем на них от котурнов и драпировок и с радостным изумлением всматриваемся в этих живых людей античных будней, за столом плюющих, рыгающих в театре, бегающих ночью после прожорливой еды, обнажающих свою наготу. Мы не возмущаемся грубым натурализмом Теофраста, потому что мы в нем ценим свежую за
|
 
|
|
рисовку * с натуры и показ человека живым, в том грубом и пошлом обличьи, в каком и был хозяин раба. Это максимум, который мог дать Теофраст. А в остальном его извиняет и оправдывает зависимость от маски, которая должна нам напомнить, с ученым какого общества мы имеем дело, и как велик путь культуры сознания от эпохи рабовладения до социализма.
ХАРАКТЕРЫ
Уже и раньше часто, изучая способы мысли, я удивлялся, равно и не перестану удивляться, каким это образом, когда Эллада расположена под одним и тем же небом и все эллины воспитаны одинаково, довелось нам иметь не одну и ту же форму характера? А я, о Поликлет, наблюдая издавна человеческую природу и прожив девяносто девять лет да еще общаясь со многими и разнообразными натурами и с огромной тщательностью сравнивая и хороших людей и дурных, понял, что следует описать, какие свойства развивают в жизни те и другие люди. Я изложу тебе по родам, какие им свойственны породы характеров и каким способом они пользуются ими в обиходе. Ведь я считаю, о Поликлет, что сыны наши будут лучше, если для них будут оставлены подобные записки, пользуясь примерами которых они предпочтут сходиться и общаться с самыми благонравными людьми, чтобы быть не хуже их. Я обращусь уже к рассказу; а тебе – следить и узнавать, правильно ли я говорю. Прежде всего я упомяну о любителях иронии, без того, чтобы разводить предисловия и много говорить вокруг да около предмета. И я начну, прежде всего, с иронии и определю ее; затем, таким же образом я изложу об иронике, каков он из себя и в какой характер он выродился; и остальные из аффектов, как я обещал, я попытаюсь представить ясными по родам. I. Ирония
Ирония, если брать типически, может считаться фальшью поступков и речей, а ироник – это тот, кто подходит к врагам, желая с ними разговаривать, но не питать ненависти. И хвалит в лицо тех, кого тайно поносит, и выражает им же сочувствие, когда они проигрывают процесс. И с обиженными и с раздраженными говорит кротко и прощает дурно говорящих о нем и тех, кто говорит против него. И желающим получить поспешно – велит прийти еще раз. И перед занимающими деньги и собирателями складчины притворяется, что только что пришел, и что уже поздно, и что он хворает. Ни в чем, чтобы он ни делал, он не сознается, но говорит, что размышляет об этом; и, продавая, говорит, будто не продает, а, не продавая, говорит, что продает. И, что-нибудь услышав, прикидывается, что не слышал, и, увидев, говорит, что не видел, а согласившись, этого не помнит. И об одном он говорит, что обдумает, а о другом, что он не знает, третьему удивляется, об ином – что уже раньше сам так рассуждал. А в общем он силен пользоваться словами в таком роде: «Я не верю», «Мне кажется это странным», «Рассказывай кому-нибудь другому» и «По твоим словам, он сделался другим, но, однако, так против меня |
 
|
|
не * выступал; я затрудняюсь, тебе ли мне не верить или обвинять его, но, смотри, как бы ты не поверил слишком скоро».
Вот подобные речи, хитросплетения и словесные прикрасы можно встретить, хуже которых нет ничего. И уж таких-то характеров, не прямых, а коварных, нужно остерегаться более, нежели ядовитых змей.
Фальшью, дословно: притворством к худшему
Собирателями складчины. В Греции обеды, угощения и пиры устраивались в складчину: давали деньгами и провизией, которая распределялась поровну между всеми. Собирали складчину и для бедняков. Здесь «собиратель складчины» в смысле такого «просителя»
II. Лесть
Под лестью можно понимать постыдное поведение, приносящее пользу льстящему, а льстец это тот, кто, сопутствуя кому-нибудь, говорит: «Ты обратил внимание, как люди смотрят на тебя? Этого ни с кем не бывает в городе, кроме тебя», «Ты вчера в стое имел большой успех: ведь, хотя там сидело более, чем тридцать человек, – как только зашла речь, кто из всех самый лучший, все, с него [т.е. с тебя] начав, кончали его же именем [т.е. твоим]» И, говоря это, одновременно снимает ниточку с плаща и, если к волосам на голове пристанет пылинка, занесенная ветром, он снимает [ее] и, смеясь, говорит: «Ты видишь? Пока я не встречал тебя два дня, ты получил полную бороду седин, хотя, как никто другой, ты имеешь для своего возраста черные волосы!» И когда «сам» говорит что-нибудь, он велит другим молчать, а когда тот кончает, он делает знак одобрения: «Правильно!» И когда тот пошло острит, он смеется и плащом закрывает рот, как будто бы уже не в состоянии сдержать смеха. И всех встречных просит остановиться, пока «сам» не пройдет мимо. И, купив яблок и груш, он приносит их и дает детям, когда «сам» видит, и хвалит их, когда тот слышит, и, целуя, говорит: «Птенчики доброго отца!» И, идя вместе с ним покупать сандалии, говорит, что его нога стройнее обуви. И когда тот идет к кому-нибудь из друзей, он, забегает раньше, говоря: «К тебе он идет», а вернувшись: «Я возвестил!» Конечно, он способен, не переводя дыхания, выполнять поручения на женском рынке, и покупает ему провизию и нанимает флейтисток. И он первый из пирующих хвалит вино и, подняв что-нибудь со стола, говорит: «В самом деле, какое вот это хорошее!» и говорит, возлежа: «Как тонко ты ешь!» И спрашивает, не холодно ли тому и не желает ли он покрыться, и, еще говоря это, накрывает его. И, припав к уху, перешептывается и, говоря с другими, смотрит на него. И в театре, отняв у раба подушки, сам подстилает их; и дом, говорит он, хорошо выстроен, и поле хорошо взрощено, и портрет похож. А в общем льстеца можно видеть и говорящим и делающим все то, чем он думает угодить.
Стоя. Колоннада, где афиняне встречались и часто вели философские беседы.
Сам. Т.е. тот, к кому обращена лесть.
На женском рынке. Место, трудное для комментаторов; по-видимому, это рынок, где продавались вещи женского обихода.
|
 
|
|
Флейтисток *. Как и поваров, их брали напрокат на рынке; они играли во время пира. Обычно, это были дешевые гетеры.
Возлежа. Греки ели не сидя, а полулежа.
Отняв подушку. Сиденья в театре были каменные. Так как представление длилось целый день, то греки приносили с собой подушки для сиденья.
Портрет. Буквально – изображение, статуя.
III. Пустословие
Пустословие – это рассказыванье, состоящее из длинных и необдуманных речей; пустослов же это тот, кто близко присаживаясь к незнакомому, начинает прежде всего хвалить свою жену; затем, какой он этой ночью видел сон, это рассказывает; дальше – что он имел на обед, все перечисляет по порядку; затем, если дело продвигается, говорит, насколько нынешние люди много хуже живших в старину, и дешева стала пшеница на рынке, и как много гостит чужеземцев, и что море после Деонисий становится судоходным, и если Зевс пошлет обильный дождь, для земли это будет лучше; и что на будущий год он возделает землю, и как трудно жить, и как Дамипп воздвиг во время мистерий большой факел; и «Сколько колонн в Одеоне!» и «Вчера меня рвало», и «Какой день сегодня?» и что в Боедромионе происходят мистерии, а в Пюанепсионе – Апатурии, в Посидеоне же – сельские Дионисии. И если кто-нибудь сможет его выдержать, он не отстанет.
Отмахиваясь, следует избегать подобных людей и, поднявшись, удаляться, если только кто не хочет получить лихорадки: ибо трудно терпеливо переносить тех, которые не делают различия между спешкой и досугом.
После Дионисий. Праздник в честь Диониса, бога винограда и вина. Здесь имеются в виду Великие Дионисии, по нашему календарю – между мартом и апрелем, когда кончается зима и море становится судоходным.
Во время мистерий. Тайные культы, таинства, широко распространенные в Греции. Самые известные – Элевзинские; частью этих мистерий являлась процессия с факелами, которые жертвовались участниками таинств.
Одеон см. XXVI.
Боедромион. Третий месяц аттического календаря, с середины сентября – до середины октября.
Апатурии. Праздник в честь Зевса и Афины.
Пюанепсион. Четвертый месяц, от середины октября – до середины ноября.
Посидеон. Шестой месяц, вторая половина декабря – первая января.
Сельские Дионисии. Разновидность Дионисий; справлялись по окончании сбора винограда.
IV. Неотесанность
Повидимому, неотесанность – это безобразное невежество, а неотесанный – это тот, кто кикеона напившись, в народное собрание отправляется. И мирт, говорит он, ничуть тмина приятнее не пахнет. И больше ноги башмаки носит; и заговаривает громким голосом: и друзьям и домашним не доверяет, слугам же своим открывается в самом крупном; и наемникам, работающим у него в поле, рассказывает все, что было в народном собрании; и садится, вздернув плащ выше колен, так что обнаруживается его нагота. И ничему, обычно, |
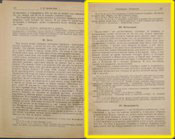 
|