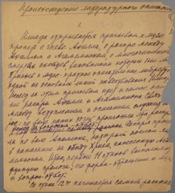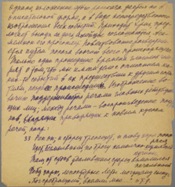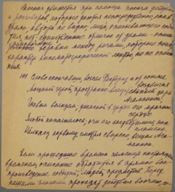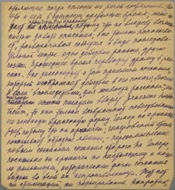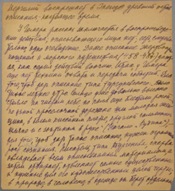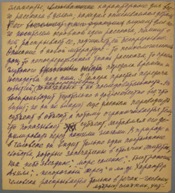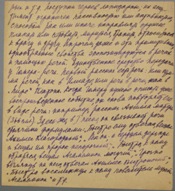Происхождение литературного описания
Опубл.: Фрейденберг О. М. Происхождение литературного описания / Ольга Фрейденберг ; публ. и примеч. Натальи Костенко при участии Нины Брагинской // Теория и история экфрасиса: итоги и перспективы изучения : колл. монография / Ин-т рег. культуры и литературовед. исслед. им. Францишка Карпиньского в Седльцах, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Гроднен. гос. ун-т им. Янки Купалы. – Siedlce : Instytut kultury regionalnej i badań literackich im. Franciszka Karpińskiego, 2018. – С. 28–76.
|
|
 
|
|
Происхождение литературного описания.
1*
Илиада открывается призывом к музе пропеть о гневе Ахилла, о распре между Ахиллом и Агамемноном, о многочисленных смертях ахейцев, виновником которых был Ахилл. Призыв к музе – краткое описательное либретто одной из основных линий повествования Илиады. Вслед за этим призывом идет и самое описание распри Ахилла и Агамемнона. Связью между вступлением и списанием служит вопрос: по воле каких богов произошла эта распря? Вслед за вопросом – ответ. Распря произошла по воле Аполлона1, который послал язву в наказание за обиду Хриза, нанесенную Агамемноном. Итак, первые 11 стихов выполняют функцию пролога; его форма – обращение к музе и вопрос – ответ.
Со стиха 12-го начинается самый рассказ.
1ghghg
|
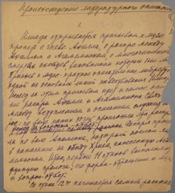 
|
|
Однако, изложение этого рассказа дается не в описательной форме, а в виде непосредственного изображения всех событий. Приходит Хриз, предлагает выкуп за дочь, ахейцы соглашаются, Агамемнон его прогоняет. Повествование развертывается путем показа воочию всего происходящего. Только одни прошедшие времена глаголов говорят о том, что мы имеем дело с описанием каких-то событий в их предшествии к другим событиям, позднее происшедшим. Изображение воочию поддерживается речами главных действующих лиц; между речами – воспроизведение поступков, приводящих к новым кускам речей, напр.:
33 Рек он; и старец трепещет, и слову царя покоряся,
Идет, безмолвный, по брегу немолчно-шумящей пучины.
Там, от судов удалившися, старец взмолился печальный
Фебу царю, лепокудрые Леты могущему сыну:
«Бог сребролукий, внемли мне...» и т.д.
|
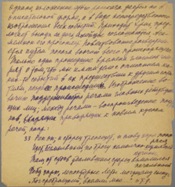 
|
|
Рассказ движется при помощи показа действий и разговоров, которые даются непосредственно, как в драме; автора не видно; лица*, описывающего события, нет; единственное отличие от драмы – ремарочныe вставки между речами, которые носят характер кинематографической ленты, но не описания.
101 Слово скончавши, возсел Фесторид и от сонма воздвигся
Мощный герой, пространно-властительный царь Агамемнон,
Гневом волнуем; ужасной в груди его мрачное сердце
Злобой наполнилось; очи его засветились, как пламень.
Калхасу первому, смотря свирепо, вещал Агамемнон.
Если прошедшие времена заменить настоящим временем, описание обратится в прямое воспроизведение событий, людей, предметов. Перед нашими глазами проходят действия воочию, со
|
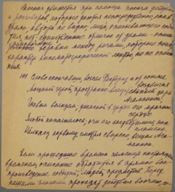 
|
|
стоящие почти сплошь из речей-состязаний. Но это и есть, в сущности, настоящее время; кино не дает прошедшего времени, потому что не владеет возможностью давать описания; оно только показывает, разворачивая события в виде последовательной ленты: одно действие раньше, другое позже. Прошедшее время переводит драму в рассказ. Оно диссонирует с тем приемом сознания, который изображает действие в его показе, воочию. И если впоследствии, «для живости рассказа», античные писатели вводят praesens historicum, то они только возвращают повествованию его исконную временную* форму. Гомер не архаизирует, потому что он архаичен; гомеровский стиль показывает обратное явление, – переосмысление новым сознанием сознания старого. На Гомере, поскольку он архаичен по-настоящему и нацело фольклорен, исторические фазы сознания видны во всей их непроизвольности. Тут нет ни стилизаций, ни подыгрываний. Напротив,
|
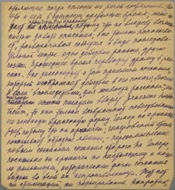 
|
|
Вергилий воскрешает в Энеиде древний остов описания, – настоящее время.
У Гомера рассказ заключается в воспроизведении действия; описывающего лица нет; есть, следовательно, одно очевидение*. Даже описание жертвоприношения и морского путешествия (458–487) даются, как серия действий воочию. Итак, у Гомера еще нет техники охвата и передачи событий. Для того, чтоб дать описание типа тургеневского «Было тихое летнее утро. Солнце уже довольно высоко стояло на чистом небе, но поля еще блестели росой... по узкой проселочной дорожке шла молодая женщина, в белом кисейном платье, круглой соломенной шляпе и с зонтиком в руке» (начало «Рудина»), – для того, чтоб дать такое описание, нужен огромный объем сознания. Писатель, типа Тургенева, сперва овладевает всем описываемым материалом, а затем отбирает, отвлекает самые существенные и нужные для его художественных целей черты; в природе, в человеке, в одежде он берет отдельные
|
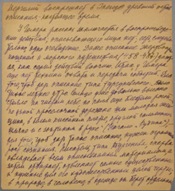 
|
|
элементы, характерные для всего рассказа в целом; каждая описываемая деталь служит для него носителем основной идеи рассказа, помнит о ней, раскрывает ее, подчиняется ей беспрерывно. Описание в новой литературе – то психологический фон, то непосредственная ткань рассказа, то прием глубокого передела времени и господства над ним. У Гомера простая передача событий, непосредственно показанных в их последовательности. Он воспроизводит тщательно и добросовестно все, что видит; но он не владеет еще уменьем переводить субъект в объект, а потому ограничивается тем, что показывает субъект, заставляя его дефилировать перед нашими глазами. В природе и в человеке он видит только одни постоянные свойства, которые запечатлены в стоячих эпитетах, как «небо звездное», «море соленое», «быстроногий Ахилл», «непорочный жрец» и мн. др. Характер человека раскрывается только в речах – гневных, мудрых, сладких, хит
|
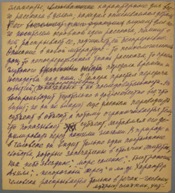 
|
|
рых и т.д. Поступки героев лапидарны; их ассортимент ограничен пассивностью или активностью, способом так или иначе направлять оружие, плакать или сетовать, мириться, бранить, относиться к врагу и другу. Впрочем, даже и эти примитивные, однообразные свойства экспозицируются в речах и с помощью речей. Единственное средство передачи у Гомера – речь. Первый рассказ есть речь: или сумма речей, как в Илиаде, или речь в речи, как в «Пире» Платона. Когда Гомеру нужно описать уже воспроизведенное событие, он снова повторяет его в виде речи: например, рассказ Ахилла матери (366 слл.) Здесь же, в I песне, он связывает речи стоячими формулами: «Быстро ему отвечая, вещал Ахиллес благородный», «Рек он; и сердцем дерзнул и вещал им пророк непорочный», «Быстро, к нему обратяся, вещал Агамемнон могучий», «Грозно взглянув на него, отвечал Ахиллес быстроногий», «Быстро воскликнул к нему повелитель мужей Агамемнон» и т.д.
|
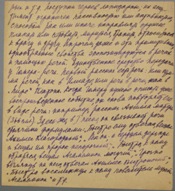 
|