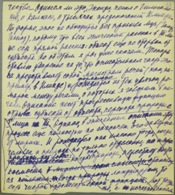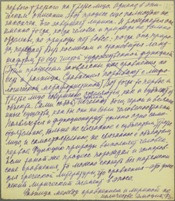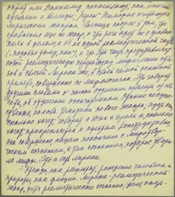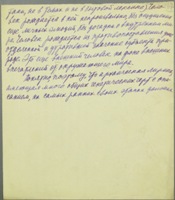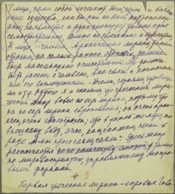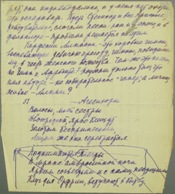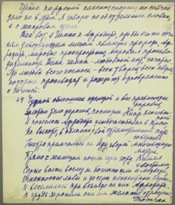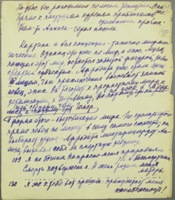Происхождение литературного описания
Опубл.: Фрейденберг О. М. Происхождение литературного описания / Ольга Фрейденберг ; публ. и примеч. Натальи Костенко при участии Нины Брагинской // Теория и история экфрасиса: итоги и перспективы изучения : колл. монография / Ин-т рег. культуры и литературовед. исслед. им. Францишка Карпиньского в Седльцах, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Гроднен. гос. ун-т им. Янки Купалы. – Siedlce : Instytut kultury regionalnej i badań literackich im. Franciszka Karpińskiego, 2018. – С. 28–76.
|
чество – Одиссея ли это, Энеида, песня о Гильгамеше, о Калхасе, о тысячах предсказаний Илиады. По форме, эпос не обходится без призыва Муз (Гомер, Гесиод), потому что весь эпический рассказ в III лице есть прямой рассказ: объект еще не оторван от субъекта. Но об этом я раз уже сказала. Теперь ставлю ударение на то, что описательная часть эпоса представляет собой магистраль речей (как, например, в Илиаде) и формально рождается из тех увязок, ремарок между речами, о которых я говорила в начале. Описание несет прогрессивную функцию отрыва субъекта от объекта, перехода природы с
|
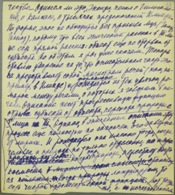 
|
|
первого-третьего на третье лицо. Однако, в эпическом описании этот процесс еще полностью не закончен. Его завершает лирика. И рождается она именно тогда, когда человек и природа не только отделены, но природы нет вовсе: когда она, природа, перестает быть космосом и становится ландшафтом, то есть чистой художественной функцией. Вот тогда-то первое и третье лицо совершенно отделяются, как и субъект от объекта. Сами собой, как субъекты, исчезают боги, герои и всякие иные существа, как бы они ни были человекообразны. Появляется и функционирует только одно самостоятельное, больше не связанное с субъектом, третье лицо, и самостоятельное, не связанное с объектом, первое. Функцию природы выполняет человек. Если такой же процесс порождал и гомеровские сравнения, то можно сказать без натяжки для греческой литературы, что сравнения – это уже некий лирический элемент в эпосе.
Разница между сравнением и лирикой не в количестве эмоций. Фе
|
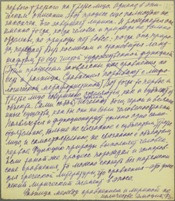 
|
|
окрит или Вакхилид показывают, как эпичны идиллии и баллады; «Персы» Тимофея считаются лирическим жанром. Разница скорее в том, что сравнения еще не жанр, и что речь идет не о сравнениях в целом, а об их одной реалистической части («подобно тому, как»), и что эта часть представляет собой реалистическую переработку мифических образов и связей. Лирика же, в своей самой основной примете, совершенно не мифологична. Это говорит другими словами о полном отделении субъекта от объекта, об отделении окончательном. Отныне несущественно, какова тематика нового жанра; пусть она, сколько хочет, говорит о богах и героях и, сколько хочет, прикрепляется к культам. Конструктивно, она совершенно, нацело покончила с мифотворческим сознанием, с тем сознанием, которое творило мифы. Это и есть лирика.
Отсюда, как результат, рождение человека и природы, как фикции. Лирика – реалистический жанр, дитя реалистического сознания (дело, опять
|
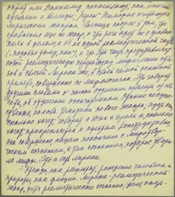 
|
|
-таки, не в темах и не в бытовой лексике). Человек рождается в ней непроизвольно, без ощущения еще личных эмоций, без догадки о внутреннем мире. Человек рождается из противопоставления уже отделенной и утратившей значение субъекта природе. Это еще внешний человек на фоне внешних впечатлений об окружающем мире.
Понятно, поэтому, что архаическая лирика, имеющая много общих генетических черт с описанием, на самых ранних своих этапах должна
|
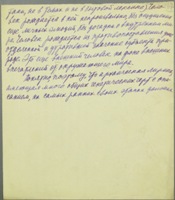 
|
|
быть максимально описательной. Это должен быть рассказ о человеке, вне связи с космосом или его воплощениями – богами, героями, чудовищами и т.д. Оттого я и сказала, что греческий лирический жанр вовсе не есть лирика, потому что он не есть лирика европейская; он очень архаичен, очень своеобразен; это в такой же мере, по внешнему виду, эпос, как, скажем, песни в роде «А мы просо сеяли, сеяли». Здесь жанр распознается только по мировосприятию, управляющему жанровыми формами.
9*
Первая греческая лирика – хоровая. Гово
|
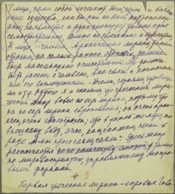 
|
|
рят, она индивидуальна, и у меня нет охоты это оспаривать. Пусть Стесихор и вcе присные, действительно, слагали песни: как и в эпосе, и в фольклоре – проблема решается не этим.
Парфении Алкмана – это хоровые гимны, воспевающие девичью красоту, гимны, повидимому, в честь женского божества. Чем же это не эпос, не Гимн к Афродите? Неужели только тем, что имя автора – не собирательное ‛гомер’, а личное, живое – Алкман?
51... Агесихоры
Волосы, моей сестры
Двоюродной, ярко блещут
Золотом беспримесным,
Лицом же она серебристая.
|
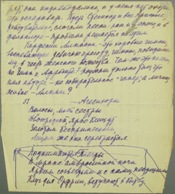 
|
|
Чтение парфений неясное, спорное, но сейчас дело не в этом. Я говорю не об отдельных словах, а о жанровом стиле.
Так вот, в Гимне к Афродите, кто бы его ни сочинял, действующим лицом является природа, Афродита, мировое произростание, мировая производительность. Тема гимна – любовный акт, зачатие. Это любовь всего космоса – всех тварей, всех зверей, которые производят и рождают одновременно с богиней.
64 Чудной облекшись одеждой и все превосходно оправив,
Золотом тело украсив, покинула Кипр благовонный
И понеслась Афродита улыбколюбивая в Трою,
На высоте, в облаках, свой стремительный путь совершая.
Быстро примчалась на Иду, зверей многоводную матерь.
Прямо к жилищам пошла через гору. Виляя хвостами,
Серые волки вослед за богинею шли и медведи,
Огненноокие львы и до серн ненасытные барсы.
И веселилась* при взгляде на них Афродита.
В грудь заронила она им желание страстное. Тотчас
|
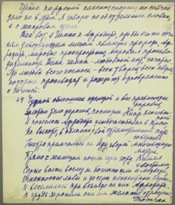 
|
|
По-двое все разошлися по логам тенистым. Она же
Прямо к пастушьим куреням приблизилась, сделанным прочно.
Там-то Анхиза-героя нашла.
Картина и вся концепция – типично мифологические. Однако, это уже не миф, а эпос. Муза, поющая этот миф, остается забытой фигурой, давно стертым субъектом. Афродита уже стала здесь III лицом, чьи приключения воспевает земной певец, эпик. Он тяготеет к предметному миру, к детализации, к бытовизму, но уже в меньшей степени, чем Гомер. И форма этого – бытовизация мифа. Но сделать этого прямо певец не может в силу самого сюжета; он выбирает другое, – Афродита мистифицирует Анхиза, выдавая себя за смертную девушку.
109 Я не богиня. Напрасно меня приравнял ты к бессмертным.
Смерти подвержена я. И жена родила меня матерь.
..................................................................................................
130 Я же к тебе вот пришла: принуждает меня неизбежность!
|
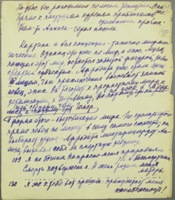 
|