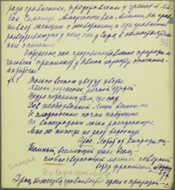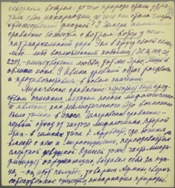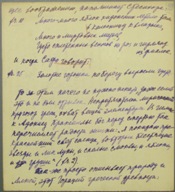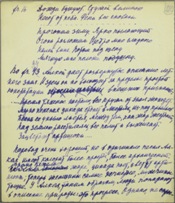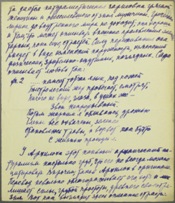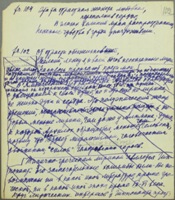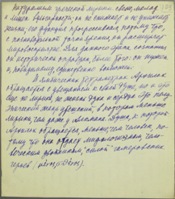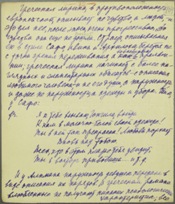Происхождение литературного описания
Опубл.: Фрейденберг О. М. Происхождение литературного описания / Ольга Фрейденберг ; публ. и примеч. Натальи Костенко при участии Нины Брагинской // Теория и история экфрасиса: итоги и перспективы изучения : колл. монография / Ин-т рег. культуры и литературовед. исслед. им. Францишка Карпиньского в Седльцах, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Гроднен. гос. ун-т им. Янки Купалы. – Siedlce : Instytut kultury regionalnej i badań literackich im. Franciszka Karpińskiego, 2018. – С. 28–76.
|
рода сравнениях, представлены у греков в ямбах Семонида Аморгского. Как Алкман, он сравнивает женщин с животными, и эти сравнения развертываются у него, как у Сафо, в самостоятельные описания.
Интересно, как противопоставление природы и человека принимает у Ивика характер описания – антитезы:
fr. 1 Только весною цветут цветы
Яблонь кидонских, речной струей
Щедро питаемых, там, где сад
Дев необорванный. Лишь весною же
И плодоносные почки набухшие
На виноградных лозах распускаются.
Мне ж никогда не дает вздохнуть
Эрос. Летит от Киприды он, -
Темный, вселяющий ужас всем, -
словно* сверкающий молнией северный
ветер фракийский... и т.д.
И у Сафо эрос = ветер.
Эрос, божество, сравнивается здесь с природой – с
|
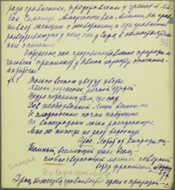 
|
|
северным ветром: до чего природа утратила свои инкарнации, до чего она стала чистой художественной фикцией! У Гомера немыслимо сравнение божества с ветром: ветер* у него – патриархальный царь Эол в кругу своей семьи, либо... либо возлюбленный кобылиц* (Il. 16, 149; 20, 220), – олицетворение любви, тот же Эрос, лишь иногда в облике коня. У Ивика древний образ раздвоен и противопоставлен, – в новом значении.
Лирическое сравнение, становясь метафорой и пейзажем, перестает быть средством описания*, методом показа мифологического явления, как реалистического. Это возможно было только в эпосе. Гомеровское сравнение – первый отход от чистого мифологизма. Второй этап – в гимнах типа К Афродите, где богиня, а вместе с нею и мироощущение, переодеваются смертной девушкой. Одиссей тоже часто мистифицирует окружающих, выдавая себя за купца, – он, этот полубог, товарищ Афины, сверхъестественное существо, инкарнация природы!
|
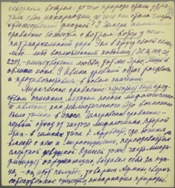 
|
|
щее воображению, напоминает Стесихора.
fr.10 Много-много яблок кидонских летело там
в колесницу к владыке,
Много и миртовых листьев,
Густо сплетенных венков из роз и гирлянд
из фиалок.
И когда Сафо говорит* :
fr. 118 Золотые горошки по берегу выросли густо, –
то за этим ничего не нужно искать, даже если б это и не был отрывок. Непритязателен лирический кругозор грека, охват вещей элементарен. В гимне к Адонису Праксиллы бог перед смертью так перечисляет радости жизни: «Я покидаю прекраснейший свет солнца, во-вторых блестящие звезды и лик луны, и спелые смоквы, и яблоки, и груши» (fr. 2).
Так же просто описывает природу и Алкей, этот Гораций греческой древности:
|
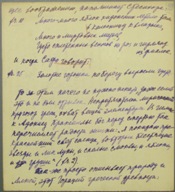 
|
|
fr.16 Дожди бушуют. Стужей великою
Несет от неба. Реки все скованы
..................................................................
Прогоним зиму. Ярко пылающий
Огонь разложим. Щедро мне сладкого
Налей вина. Потом под щеку
Мягкую мне положи подушку.
Во fr. 34 Алкей дает развернутое описание летнего зноя. И здесь он не выходит за пределы простой констатации внешних признаков:
...
Время тяжкое настало, все кругом от зноя жаждет.
Мерно нежная цикада стонет в листьях, из-под крыльев
Песнь ее уныло льется, между тем, как жар жестокий,
Над землею расстилаясь, все палит и выжигает.
Зацветают артишоки...
Перевод очень хороший, но в оригинале песня Алкея имеет колорит более простой, более архаический. Время тяжелое, жара, цикада поет, цветет артишок; теперь женщины самые нечистые, мужчины тощие. У Алкея, таким образом, люди попадают в описание природы: это прогресс. Однако, неспрос
|
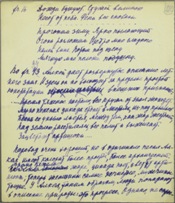 
|
|
та дается натуралистическая зарисовка грязной женщины и обессилевшего от зноя мужчины. Греческая лирика до внутреннего мира не доходит; она хороша и тем, что может описывать внешние проявления элементарных, пока еще, страстей. Силу переживания она рисует в виде изменений наружности, изменений физических, зрительно-ощутимых, наглядных. Сафо описывает любовь так:
fr. 2 ...немеет тотчас язык, под кожей
Быстро легкий жар пробегает, смотрят,
Ничего не видя, глаза, в ушах же –
Звон непрерывный.
Потом жарким я обливаюсь, дрожью
Члены все охвачены, зеленее
Становлюсь травы, и вот-вот как будто
С жизнью прощусь я.
У Архилоха этот наивный архаический натурализм настолько груб, что его не всегда можно цитировать. Впрочем, таков Архилох в оригинале. Перевод невольно облагораживает его, хотя и лишает силы, грубой простоты, древнего своеобразия. Вот как выглядит здесь описание страсти:
|
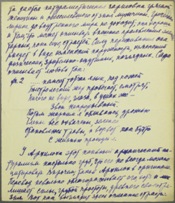 
|
|
fr. 104 Эта та страстная жажда любовная,
переполнив сердце,
В глазах великий мрак распространила,
Нежные чувства в груди уничтоживши.
fr. 102 От страсти обезжизневший,
Жалкий, лежу я, и волей богов несказанные муки
Насквозь пронзают кости мои.
|
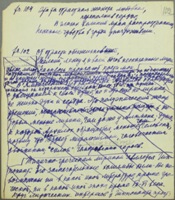 
|
|
Натурализм греческой лирики свеж, молод и лишен вульгарности; он не снижает и не унижает жизни; его функция прогрессивная, потому что, с познавательной точки зрения, он расширяет мировосприятие. Для данного этапа сознания он исторически оправдан, более того: он нужен и, повидимому, единственно возможен.
В ямбических тетраметрах Архилох обращается с увещанием к своей душе, но и это еще не лирика, не жизнь духа и сердца. Это полу-эпический жанр утешений, в котором меньше лирики, чем даже у Алкмана. Душа, к которой Архилох обращается, меньше, чем человек, потому что она отдает мифологизмом, человеческим двойником, ‛силой’ гомеровских героев (μένος, σθένος).
|
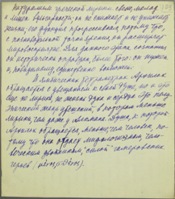 
|
|
12*
Греческая лирика, в противоположность европейской, описывает не чувство, а людей, – и это для нее, после эпоса, очень прогрессивно. До чувства она еще не доходит. Страсть, описываемая ею в стиле Сафо, Ивика и Архилоха, берется не с точки зрения переживания, а во внешнем проявлении; греческая лирика начинает с более наглядных и элементарных объектов – с описания любимого человека, – и не его души, а наружности, и даже не наружности, а одежды и убора. Так, у Сафо:
fr. Я к тебе взываю, Гэнгила, выйди
К нам в молочно-белой своей одежде!
Ты в ней так прекрасна! Любовь порхает
Вновь над тобою.
Всех, кто в этом платье тебя увидит,
Ты в восторг приводишь... и т.д.
И у Алкмана наружность девушек передана в виде описания их нарядов. В греческом романе влюбленные не получают никаких психологических характеристик; все
|
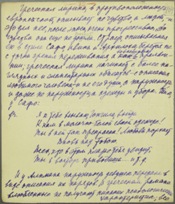 
|