моложе, была ли и мать его той же национальности, что и его отец; затем, нужно строго разграничивать фольклор от литературы, я же никак не могу доподлинно узнать, что такое, в сущности, фольклор. На практике-то я, разумеется, хорошо знаю, что значит фольклор: ведь у нас две комнаты рядом, и когда литература – заседают справа, а когда фольклор – заседают слева. Нет, бродячие сюжеты куда безобидней. Здесь не требуется пояснений ни термина, ни происхождения. Бродячие – и кончено. А кто и за кем бродит, не все ли равно!
9 февраля. Что бы такое взять без головоломки? Четкость, главное четкость. Думаю Лермонтовского «Демона». Тут хорошо: сразу Пушкин. А уж где Пушкин, там все пойдет, как по маслу и вполне четко. Вот, в самом деле: сразу же у Пушкина имеется «Ангел» и в нем действует Демон. Наметка и готова. Там и тут встреча демона с ангелом. И дальше: у Пушкина демон назван «дух отрицанья, дух сомненья», у Лермонтова тоже «дух сомненья». Затем, у Пушкина есть стихотворение, которое уже прямо озаглавлено «Демон»; в нем говорится о тайных свиданиях Пушкина со «злобным гением», который прилетал искусить чистую душу поэта. Это последнее стихотворение ятляется уже несомненным предшествием Лермонтовского «Демона». Правда, у Пушкина оказывается Тамарой мужчина, поэт, сам – увы ! – Пушкин; но яфетидология говорит, что мужчина и женщина одно и то же1. И в самом деле, Пушкин дает название «Демон» стихотворению в 1823 г., а через 5 лет под таким же названием пишет стихотворную поэму Лермонтов; совершенно ясно влияние одного поэта на другого, тем более, что они оба русские. Впрочем, возможна еще и конгениальность двух поэтов. В таком случае, осторожней спросить, у кого взяли сюжет и Пушкин и Лермонтов? – Вот это уже легче. Оставляя Пушкина в стороне, мы должны помнить о том колоссальном влиянии, какое имел на Лермонтова гениальный Байрон. Достаточно вспомнить о мощных образах Каина и Люцифера, чтобы стало ясно, от Комментарии:
|
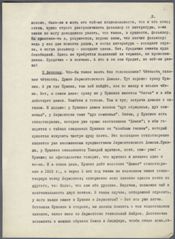
1 В «Поэтике сюжета и жанра» (Л., 1936. С. 231–233) Фрейденберг кратко касается мотивов, рассмотренных здесь, в пародийном докладе, и повторяет ту же мысль, не прибегая уже, однако, к провокационной форме: «Женская роль повторна мужской и только метафорический язык расцвечивает ее.» Фраза завершает рассуждение о построении раздвоенной системы персонажей и персонификационного оформления двуприродной (можно сказать «амбивалентной») сущности: «... царь представляется в фазе смерти рабом, жених – покойником; ‛кротость’ – черта наземная, ‛свирепость’ – подземная; благодетельный бог становится в хтонической фазе ‛убийцей’. Эти две стороны даются в одном и том же лице, но развдоенные, в линии ближайшего кровного родства; по большей части мы видим двух братьев, одного кроткого, другого – кровожадного, и второй губит первого, но первый одерживает победу, и погибает второй. Но эти двое лиц – только часть троичного комплексного образа; центральная фигура – отец, вокруг которого разгорается борьба двух братьев. Попутно отщепляется и женская роль, соответствующая трем мужским; она одновременно – мать, дитя, сестра, любовница. Отсюда впоследствии появляется мотив кровосмесительства и так называемый «Эдипов узел», за которым лежит только единство образного представления. <...> недвижен <...> один образ, носители же его безостановочно чередуются, и убийца вновь становится кротким богом, кроткий бог – вновь убийцей. <...> Однообразие полное, и в то же время богатство метафорических передач одного и того же образа создает кажущееся многообразие тем и характеров.»
|