куда взялся наш Демон. Кое-какие затруднения, правда, встают: например то, что сюжет Демона по своей схеме не имеет как будто ничего общего с сюжетной схемой Каина. Однако, центральное действующее лицо и там, и тут мятежное; что ж, этого достаточно, тем более, что один – Демон, другой – Люцифер, т.е. оба черти. Да и опять же, дело не в методологии, а в методологах. Вот, если б это стал доказывать ученик Марра, тогда нельзя: сравнивай, дескать, два равных сюжетных треугольника, а наш брат, бродячий теоретик – ему все можно; там черт и тут черт, ну и довольно, абсолютная четкость. Итак, здесь все благополучно и можно пойти дальше. Да, а откуда Байрон взял свой сюжет? Ну, ведь он был англичанин; как англичанин, он не мог не находиться под влиянием другого англичанина (тем более, предшественника) – Мильтона; а у Мильтона в «Потерянном рае» есть образ именно мятежного Люцифера. Но откуда у Мильтона появился этот тип бунтующего сатаны? – Мильтон был пуританин, человек воинст-вующей религиозности (вот, как у нас воинствующие безбожники); его сюжет взят прямо из Библии, и его сатана – библейский падший ангел. Конечно, не приходится спрашивать – откуда же этот образ взят Библией; Библия – древнейший в мире религиозный памятник, и ссылка на него освобождает от последующих разысканий1. Сюжеты Библии, как мы знаем, созданы религиозным творчеством древнего Израиля; под влиянием высокого религиозного воодушевления отдельные авторы создавали поэтические образы и сюжеты, и в том числе образ Каина. Но у меня является беспокойное желание узнать, почему религиозное воодушевление создало Каина, а не, скажем, Травиату? – Впрочем, нет ответ ясен: черты, поро
Комментарии:
|
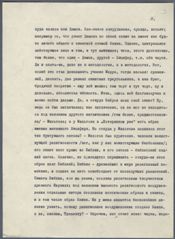
1 И в серьезной полемике с распространением исторических методов в неподсудную им сферу Фрейденберг не раз обращалась к проблеме разной датировки фактического возникновения дошедшего до исследователя древнего текста и датировки заключенного в нем «дописьменного» содержания: «Принятая ныне датировка полностью вытекает из однолинейного, чисто внешнего отношения к памятнику. Она, несомненно, имеет решающее значение при формальном подходе, и потому-то ею так дорожат и так ее отстаивают. Однако, внешнее оформление памятника в том или ином веке очень часто оказывается второстепенным фактом. Важна датировка содержания, а его-то и не датируют. Да и как можно датировать, если придерживаться теории заимствования? Ведь, если содержание берется поэтом из одного памятника и переносится в другой, то определять хронологию содержания ученый должен только для первого памятника, а хронологию оформления – для последнего. Бывает, впрочем, и второй случай, когда содержание памятника относят целиком к эпохе оформления этого памятника. И в этом случае, как в предыдущем, датируют одну эпоху и совершенно сбрасывают со счета другую, эпоху становления содержания. <...> Это – типологическая методология объяснения литературных, фольклорных и религиозных явлений. Сперва идет ссылка на Гомера или на не дошедший до нас первоисточник, существующий лишь гипотетически; от этого фантома протягивается одноколейная дорога к исследуемому памятнику, с переупряжкой лошадей на всех промежуточных придорожных станциях. В отдельных случаях филологическая критика доходит до того, что считает страсть Архилоха взятой от какого-то выражения Гомера, а выражение Гомера – поздней вставкой из Теогонии Гезиода <...> Однолинейных явлений в истории нет, потому что их нет в реальной действительности. Вот почему я считала себя свободной от принятых датировок в тех случаях, когда имела дело с образным содержанием памятника» (Композиция «Трудов и дней» Гезиода [не опубликовано]).
|