же больше, что пока каждый сюжет фигурирует, как готовая величина, все обстоит нормально. Ведь самое основное – это нахождение спецификума. А в отношении сюжета спецификум заключается в том, что только один сюжет из всего поэтического комплекса ровно ничего собой не представляет и даже не существует, как таковой. Это спецификум сюжета, и выявлять его – одна из основных задач поэтики. Да и то сказать, сюжет – в одних случаях фабула, которая нужна для того, чтоб обойти читателя и хитростью заставить его дочитать книгу до конца; в других это схема, придуманная фантазией автора, с целью затянуть свое рассыпчатое произведение в некий стержневой корсет; в третьих случаях это композиционный предлог. А в общем – сюжет такая незначительная часть произведения, которая не заслуживает самостоятельного изучения, вроде пуговицы, пришитой к обшлагу кармана. Да и откуда сюжеты взялись? Либо из поэтической фантазии, либо подсказаны жизнью. Поэтическую фантазию не изучишь, не охватишь, она необузданна и неизмерима (у меня даже голос прерывается от волнения, когда я начинаю говорить о поэтической фантазии). Ну, а то, что дано самой жизнью? – Оно было, есть и будет. Можем ли мы накинуть научный аркан на события, которые вырастают из самой жизни? И не из жизни просто, а из самой жизни. Сама жизнь. «Сама» – это нужно вникнуть, что за штука. Недаром говорится «мой государь», «мой Сид», «мой бог». – «Сама жизнь», значит, сказал – и баста. Указывает на самодовлеющую значимость1. В самом деле, события всегда происходили одни и те же, скажем, насилие женщин в монастыре или похищение разбойником девицы. Это ясно; так было во времена патриархов, так ныне в Ленинграде, особенно к ночи, после поздних докладов. У готтентотов, несомненно, и посейчас насилуют в монастырях женщин, и анг
Комментарии:
|
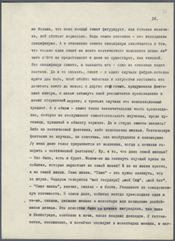
1 В Воспоминаниях Фрейденберг содержится любопытый комментарий к использованному с такой эмфазой выражению “сама жизнь”:”Меня манили всякие шаблоны. Мне прекрасно был понятен смысл слов о Бентаме, сказанных Д. С. Миллем, что тот был «the great questioneer of things established». Я любила разбивать шаблоны и смотреть в их механизмы, как мальчики, в руки которых попадают часы, замки, заводные игрушки. Почуяв шаблон, я уже не могла оторваться, пока на столе не лежали его вскрытые внутренности. И давно меня интриговал быт, поступки, взгляды людей, все институции. Я чувствовала в них огромный шаблон, но, прежде всего – условности, и вопрос «почему», «откуда» сейчас же вставал передо мной. Революция многое мне уяснила. С восторгом я встречала все исторически новое, начиная с бесклассовости и кончая восхищавшей меня «скользящей неделей», впервые разбившей календарь. Прокрида [так Фрейденберг называет работу вышедшую под заглавием “Поэтика сюжета и жанра” – Н.Б.] показала мне быт, как параллельную линию к искусству, науке, материальной культуре. Тем самым все теории о реализме, идущем из «самой жизни», навсегда стали мне смешны. «Сама жизнь», высмеянная мной еще в моем сатирическом докладе «О бродячих сюжетах», спокойно улеглась в моей книге таким же материалом, как слово и вещь. До меня никто этого не делал. Бытовые представления (наши квартиры, наша еда, одежды, наши нормы поведения) заняли бы у меня большее место, если б я не была стеснена со всех сторон издательством и формально, и со стороны содержания книги. Впрочем, на лекциях я широко пользуюсь,чтоб показывать студентам условность и устарелость нашего сознания.”. Для Фрейденберг революция релятивизировала шаблон “самой жизни” между тем, как установленный революцией порядок вещей в свою очередь заявил претензии на тот же титул. “Сама жизнь” – это простые люди, простой народ, их простые нужды.. Сама жизнь начинает стабильно противопоставляется культуре, земещая в этой оппозиции природу. В отечественных исторических исследованиях (хотя конечно, не только в них) сама жизнь, понятая прежде всего как материальное производство и бытовая повседневность, выступает как единственное подлинно творческое начало: она все творит из себя, подобно материнскому божеству, а за ней тащится в обозе культура со свойственными ей традиционными стандартами. Косную и неповоротливую Культуру божественная спонтанная Жизнь сталкивает со своими все новыми и новыми порождениями и та просто вынуждена на них реагировать, “отражать”. Вот слова из письма одного из яфетидологов, Л.Башинджагяна Марру, где фигурирует эта же “сама жизнь”: “Сама жизнь гонит к нам «спецов» (по мнению некоторых, они идут к нам «из тактических соображений», но ведь это же все равно, раз они работают на нашу мельницу), которые несомненно в состоянии оказать реальную помощь новому учению” (31 мая 1929; СПбФАРАН. Ф 800 оп.3.і, 46, Л.4.). Самой Жизни здесь противостоят “спецы”, представители старой науки и интеллигенции. Иностранцы хорошо чувствуют семантику “жизни” и в современной речи. Они замечают, что у русских с «жизнью» связано все гадкое, ужасное. Когда говорят «знать жизнь», имеют в виду знакомство с ее тяготами, несправедливостью, жестокостью, коварством и пакостями людей. «Быть ближе к жизни» это значит не предъявлять к ней слишком больших требований, соглашаться и смиряться с порядком вещей и т.п. Какая связь между «Самой Жизнью» как фигурантом наших научных трудов и той неприятной и требовательной «самой жизнью» современного обихода? Первая – это образ власти молодой, революционной, он законсервирован, сохранен в нашей науке. Вторая «жизнь» – из обиходного языка, более подвижного, и это уже образ власти, с которой мы имели дело последние десятилетия – тягостная неизбежность. Общее у той и другой “жизни”, конечно, принудительность.
|