хоровых песен, явно безличную по содержанию. Наличие «я»-мотива еще не говорит о переживаниях самого поющего. В то же время лирический автор уже поет не о богах и героях, а о человеке, о себе. Но особенность этого раннего лирического «себя» состоит и в том, что в нем нет чистого «я», оторванного от объективного «оно». Архилох сильно модернизируется переводчиками, которые видят у него психологическое обращение к своей душе, вроде того, как Тютчев говорит: «О, вещая душа моя! О сердце, полное тревоги...» Ничего подобного здесь нет. Архилох разговаривает с конкретной душой, сидящей в его теле. Это уже не гомеровский двойник, μένος, но средоточие духовной силы Архилоха, дум его и состояний, нечто объектное, находящееся в Архилохе,— римлянин сказал бы: «гений его»1. Отделение познающего сознания от познаваемого мира и перемена, в связи с этим, функций образа приводят к разграничению первого и третьего лица, субъекта и объекта познания. Как непроизвольный результат этого нового жизнепонимания, возникает возможность видеть вещь со стороны, вещь, в которой уже не присутствует сам смотрящий. Так создается описание внешнего мира. Пока субъект и объект слиты, оно невозможно. Поэтому в мифе описаний нет. Чтоб иллюстрировать свою мысль, напомню, что в греческом романе, использующем архаические мифы, герои не умеют описывать своих приключений. Они рассказывают их в форме прямых речей, однако в присутствии божества, и затем эти речи, уже записанные, кладут на жертвенник и оставляют в храме. Совершенно ясно, что такое до-описание выполняет функцию жертвоприношения; жертвенное животное само рассказывает о своих страстях и само лежит на алтаре, как эти страсти воочию. Таким образом, здесь не только нет чего-то, что
Комментарии:
|
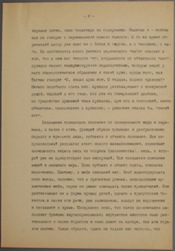
1 Имеется в виду знаменитое стихотворение (Diehl Fr. 67 a), которое в переводе В.Вересаева начинается так: Сердце, сердце! Грозным строем встали беды пред тобой.Ободрись и встреть их грудью, и ударим на врагов!
|