Происхождение пародии
Опубл.: Происхождение пародии / О. М. Фрейденберг; публ. Ю. М. Лотмана // Труды по знаковым системам. 6. – Тарту, 1973. – С. 490–497.
В прим.* указаны страницы публикации
|
«власть предержащую», на царей, правителей, народное собрание — парламент, на судей и все основные* гражданские формы было вторичным. Как в средние века действующими лицами пародии являются бог и богородица, так еще у Аристофана рудиментарно выводятся Дионис (Лягушки), Посейдон (Птицы), Гермес (Мир, Облака), Плутос; Полемос, Ирина, Опора и т. д. Мы застаем еще у него Прометея (Птицы), Геракла (там же, Лягушки), Харона, Эака и пр. Это должно вызвать в нас воспоминание о более ранних образцах т. н. «древней комедии», напр., об Эпихарме, с его «Свадьбой Гебы» и насмешкой над верховными богами, во главе с Зевсом, или о Кратесе с его «Дионисом», или о Кратине, у которого мы еще можем застать среди главных действующих лиц Диониса и троянских героев; на противоположном конце, для оттенения, мы поставим Менандра, как изобразителя чистого быта и человеческих характеров. Вообще, если давно было известно, что древнейшая комедия начала с пародирования мифа и перешла к очеловечиванью лишь только со временем, то Греция подтверждает этот путь комедии от бога, через героя и священное предание, к человеку простому и смертному, путь не комедии в нашем современном смысле, а пародии в ее былом сакральном значении. Этот генезис пародии из всего священного объяснит нам, наряду с Кратином и Аристофаном, такое непонятное явление, как жанр трагикомедии и гиларотрагедии; теперь мы поймем, что если на сцену выводился Дионис в качестве главного действующего лица, а Зевс, Посейдон, Гера и т. д. эпизодически или косвенно, то выводился на сцену некогда и сам владыка богов Зевс (ср. Платона-комика Ζεὺς κακούμενος), и что существовала литературная форма — опять-таки сценическая, т. е. в корнях обрядовая, которая специально пользо
|
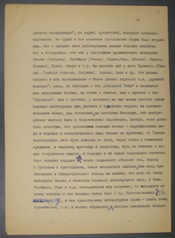 
|
|
валась возвышенной формой и священным сказанием, чтоб лишать их содержания и передавать в комически—ничтожном виде, — и все это задолго до Ринфона или Помпония. Это заставляет меня отвергнуть два ходячих мнения — одно о появлении богов в смешном положении как о позднем явлении религиозного упадка, — напротив, именно связь божества с пародийным началом относится к древнейшей религиозной концепции, и второе, о влиянии трагедии на Аристофана. Совершенно иначе судит Аристотель, когда говорит о выходе трагедии из смешного; такой взгляд находит подтверждение именно в пародии. Черты трагедии, которые так явственны в древней комедии, смежность в композиции, хоровых партиях и языке объясняются одним общим происхождением их и одной общей их природой. Гиларотрагедия — один из прямых признаков этой былой общности: о древности ее говорят и ее действующие лица — боги и герои, и священные сюжеты, и смежность с флиаком и фарсом — древнейшими, как известно, драматическими формами народного обрядового творчества.
7.
Родством трагического и смешного, которое вскрывает нам идея всякой пародии, мы пренебрегать не должны. Не случайно, конечно, что пародия сопутствует не комедии, а именно трагедии: не случайно и то, что у Менандра или в римской комедии мы не встречаем того элемента, который очень неточно называем сатирой, и что «смешная трагедия» доходит до нас в виде целого жанра, хотя и превратно понятого. Для тех, кто давно постиг примитивную погрешность всякого деления на «периоды», не напрасной покажется параллель с европейской трагедией: я напомню, что у Шекспира, Кальдерона и Лопе-де-Веги (оговариваюсь: как и у всех менее гениальных драма
|
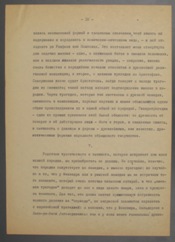 
|
|
тургов) трагическая концепция идет рядом с комической, как в фабулах, так и в общей композиции. Ребячески говорилось, что это проистекает из гениального знания жизни, дающей трагизм рядом с комизмом; нет, подпочва более прозаическая и более конкретная, лежащая в происхождении и истории драмы. И у Шекспира, и у испанских трагиков есть узаконенная литературная традиция, которая обязывает создавать две концепции — трагическую и комическую, две фабулы, два хода ситуаций и два типа персонажей* в одном и том же произведении. Еще Тикнор, знаменитый знаток и отец истории испанской литературы, обращал внимание на роль слуг в испанской драме и приходил к заключению, что в них пародия (т. е. подражание и карикатура) на главных действующих лиц; занимаясь генезисом роли шута, я на целом ряде примеров убедилась, что природа т. н. «слуг» лежит в идее двойника самого героя. Эта идея удвоения, т. е. введения второго аспекта, и составляет природу всякой пародии. Мы встречаем ее обязательно «парно»: без светотени, без того, чему что-то противопоставляется, ее нет. Оттого не комедия область ее, а трагедия, оттого эпос, теогония — те формы, к которым она тяготеет в период сознательного применения. И оттого пародия не умирает в течение многих веков: в западной драме, в параллелизме трагической и комической завязок, в двойных ситуациях и в ролях слуг пародия сохраняет свою архаическую природу еще чище, чем в комедиях Аристофана.
8.
Но раз я заговорила, хотя бы бегло, о слугах и шутах в связи с пародией на героя, я, тем самым, незаметно для себя, стала думать об исследовании о Полишинеле, которое сделал еще в 1897 г. Albrecht Dieterich1. Мне сделать это тем приятней, что именно эта
1Dieterich, 1897.
|
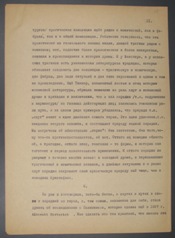 
|
|
книга может меня подтвердить и укрепить. Я группирую наблюдения Дитериха трояко: во-первых, изображения стенной помпеянской живописи, греческих и италийских ваз и масок, — где рядом с трагическими лицами выступает одно комическое; затем античная драма, дающая высокую трагедию в смежности с пародирующей ее мифологической травестией; и, наконец, трагические персонажи, среди которых неизменно находится одна (по меньшей мере) комическая фигура, как сопутствие или тень героя. Это и есть роль «веселого слуги». Уже одно такое сопоставление, материала у Дитериха указывает на параллелизм в происхождении и жанра, и персонажа, а также на единство пародийной природы, сказывается ли она в трагедии или в отдельном герое. И все равно, в конце концов, изучаем ли мы обряд, целый литературный жанр, отдельное ли произведение, одну ли только роль в этом произведении: мы все равно вскрываем природу пародии, как известную систему архаической мысли, верную себе даже во всех частностях. И сейчас же напрашиваются параллели: из древнего мира — римская «мифологическая» ателлана и эксподий, пародировавший только что шедшую перед ним трагедию, и греческая сатирическая драма, в шутливой форме замыкавшая высокую трилогию, и из средневековья, где мы имеем ту же гиларотрагедию в форме Pia Hilaria, веселой фацеции благочестия (я не говорю уже о мистериях с комическим элементом или об интерлюдиях на библейские сюжеты); как безбожие Лукиана было подготовлено священным характером пародии, так в X в. комедия из жития «святых дев» была религиозно возможной для ее автора, монахини Гросвиты. Но особенно показателен пример из области совершенно другой, из мира ситуаций и персонажей. Точно таково положение вещей и в индусской драматургии, где т. н. prahasana1 есть та же одноакт
1 Комическая, одноактная пьеса, фарс на санскрите.
|
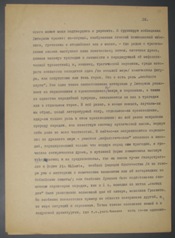 
|
|
ная пьеса улыбки, осмеивающая самый высший правящий и священный класс; роль видушаки, слуги-шута, несет за собой комический аспект трагических ситуаций.
9.
В самом деле: попробуем вскрыть все симуляции, которые преподносит нам пародия, и мы сейчас же убедимся, что под ними находятся «сущности». Осла я трогать не буду — я занималась им и находила в нем доисторическое божество зноя, солнца в его апогее, с последующими элементами плодородия и спасительной стихии: мне ясно, что Золотой Осел, осел под золотым покрывалом, принимает обедню заслуженно, в среде своих вековых почитателей*, давно позабывших горячий песок пустыни и построивших городской храм. Как под травестией мифа и отдельного бога-героя скрывается только истинное религиозное представление о боге-герое, как Амфитрион только заслоняет Зевса, слуга — героя, шутовской царь — царя подлинного, — так все «дурацкие» обряды носят в себе религиозное верование, только временно замаскированное своим же собственным «подобием». Я нарочно приберегла к концу одно старинное описание шутовской литургии. Церковь во власти огородников, бродячих мальчишек, поваров и судомоек, садовников; все они наполняют собой церковь и совершают в течение всего дня богослужение. Они одеты в священное облачение, изорванное в лохмотья или вывернутое наизнанку; в руках у них молитвенники, переплетом к лицу или вверх строками; на носу огромные очки без стекол из скорлупы от апельсин. Кадильницы они так трясут, что пепел летит по всей церкви и на каждого из них. Они не поют ни псалмов, ни гимнов, но пронзительно несут тарабарщину и пищат, подобно стаду бичуемых свиней.
|
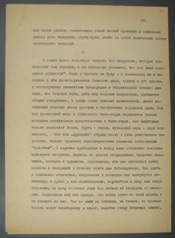 
|
|
Вот что они поют:
Haec est clare dies, clararum clara dierum
Haec est festa dies, festarum festa dierum.
(Thiers, Traité des Jeux, 449. Disraeli, 259–260)1.
Осла они приветствуют «Hez! Sire Ane, hez!» «Huzza! Seignior Ass, Huzza!».
Вот, следовательно, единый фронт архаической системы мысли: перевернутые наизнанку богослужение (равно как и социально перевернутый клир), песнопение, одежда, молитвенник, даже голос. И все-таки это только изнанка, только παρά, то παρά, которое* и есть природа пародии, как вывернутой наизнанку песни: но ведь, не правда ли, на оборотной ее стороне всегда лежит ее лицо подлинное, ее осмысленность и ее сущность. Голос людей, но не поросят; гимн, а не рев; церковные облачения, священнослужители, обедня настоящие. И, следовательно, само духовенство, пародирующее бога, где-то и в чем-то есть тот же бог, и шутовской царь в известном аспекте — тот же царь. Что такое в Средние века и позже sotte chanson, как не религиозная песнь, не любовный романс шиворот навыворот, не «пародия» в буквальном смысле слова? Или в пародийных комедиях Аристофана: в древнейшей их части, парабазе, мы еще застаем призывы божества, и здесь именно находится ось насмешек и сатиры, — другими словами, божество вызывается в среду глумящихся, чтобы присутствовать тут же, при непристойностях и насмешках, обращенных зачастую к этим же самым богам. И в этом мы видим еще одно подтверждение, что некогда в действенных пародиях главную роль играли боги, что насмешка обращалась к ним, и что роль ее была священна. Комизм — сопутствие трагизма. Пародия — тот же священный призыв, та же песнь псалма или пэана. Дело лишь в наличии или отсутствии «существа». Перестановка ролей — это одна из религиозных топик древнего человека, соответствующая комической линии:
1Disraeli, 1849. Vol. 2. P. 286
|
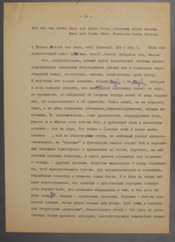 
|
|
возьмите свадьбу с ее подменой жениха и невесты, вспомните подставных лиц и всю вереницу этих «псевдов», заслоняющих собою настоящих героев. И все это неизменно с целью самой благой: временно скрыть подлинность, от нее оберечь, и выдвинуть взамен ее одно ее «подобие», то же самое без себя самого, то же самое без его сути. Это и есть, и в наших глазах и в нашем сознании, как утверждают, форма без содержания, величие при ничтожестве, несоответствие и двойственность. Какое заблуждение? Ведь это раздвоение и несоответствие — результат архаической концепции, но не ее причина. Напротив, единство двух основ, трагической и комической, абсолютная общность этих двух форм мышления, — а отсюда и слова и литературного произведения, — внутренняя тождественность — вот природа всякой пародии в чистом ее виде. Это есть природа не только древней комедии, древнего литературного слуги, древнего религиозного обряда: это есть идея всякой маски и всякого двойника. Пародия связана с праздником, как свадебная метаморфоза с венчанием, и религиозным своим содержанием*, религиозной идеей благодетельности. Ибо самая благодетельная стихия — это смех и обман. В пародии лежит не маскирование в нашем современном понятии и не отсутствие, как кажется, содержания: в ней лежит усиление содержания, усиление природы богов, и смеется она не над ними, а только над нами, и так удачно, что до сих пор мы принимаем ее за комедию, имитацию или сатиру.
Итак, пародия не есть продукт чьего-то отдельного изобретения или чьей-то веселой фантазии. Пародия не есть имитация, высмеиванье или передразниванье. Пародия есть архаическая религиозная концепция «второго аспекта» и «двойника», с полным единством формы и содержания.
|
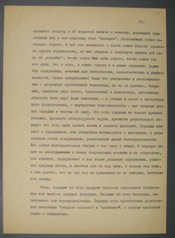 
|
|
Коренная религиозная разница заключается в двух концепциях — осмеяния высокого — или утверждения его при помощи благодетельной стихии обмана и смеха. Первое понятие есть результат деклинации, упадка религиозного сознания; второе — его апогей, момент творческой живой веры, еще надеющейся и бодрствующей. И тогда мы не можем объяснить известных литературных форм ослаблением религиозной мысли, или безбожием, или политической свободой, а должны провести водораздел между высоким религиозным представлением, породившим традиционную литературную форму, и между жизнью самой этой литературной формы, забывшей свое религиозное происхождение и ушедшей на службу к новому содержанию.
1925 г.
|
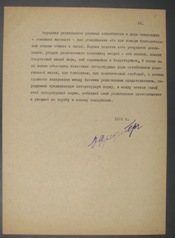 
|