самой высокой пробы был для самой меня, однако, опасный момент.
Еще в самом начале двадцатых годов я пришла совершенно самостоятельно к такой же постановке проблемы о генетической значимости сюжета, как и яфетидология; но проблемы, которые меня интересовали, уводили к поэтике, а материал мне давали жанр, композиция, сюжет. Можно себе, поэтому, представить, какое значение имело для меня учение Марра: это была родная стихия, и никаким колебаниям и неверию, тем более, «изменам» и «отреченью» никогда не могло быть места1. Кроме того, и выводы мои, и метод работы, и все, вообще, то, что считалось моей чистейшей фантазией и доброй волей, получало научное оправдание и нужность. Теперь я с особой страстной жадностью набрасывалась на теорию Марра; я не могла нарадоваться своей судьбе, которая мне позволяла жить и работать рядом с Марром. Естественно, что я рассказывала Марру обо всем, чем научно жила; он не выносил формального литературоведения, но охотно выслушивал, когда я фантазировала перед ним о своих работах и перспективах, которые открывает новое понимание сюжета и генезиса литературы. Марр знал, что я никогда не откажусь ни от самостоятельности, ни от желания следовать своим интересам. Но был момент, когда он упорно настаивал на моих занятиях грузинским языком и интересовался ими больше, чем я того хотела. Беда заключалась для меня в том, что я и сама не могла устоять против воздействия на меня Марра и готова была совершенно добровольно заглушить в себе все интересы и отказаться от самостоятельного взгляда на вещи2.
В течение некоторого времени я стояла на распутье. Но все больше и больше меня затягивала работа над «Поэтикой»3, к которой я перешла сейчас же после защиты «Романа». Я не могла обманывать ученого, перед которым преклонялась. Он должен был признать,
Комментарии:
|
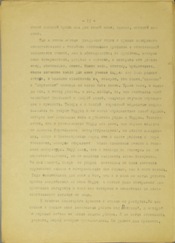
1 Еще в 1925 г. в письме к коллеге Фрейденберг писала: «Марра я понимаю глубоко, органически; когда я его слушаю, у меня волнующее сознание, что я его понимаю всем своим умственным складом, всем мироощущеньем своей умственной души, что я рождена быть его ученицей и адептом. Я ни с кем не чувствую себя так свободно и духовно легко, как с ним, чего мне не прощают „шаляпинистки», поклонницы Иафета. В то же время я прекрасно понимаю, что он как творец сосредоточен только на яфетизме. Ему не нужно ничего, кроме слепого последованья его теории: в этом его красота как основоположителя. Не поймите меня банально: да, слепота ему мила, самостоятельность докучна, и ему нужно удобренье, покорная и восторженная стихия сектантства и фанатизма; ему нужен лить он сам, он в учениках, он в матерьяле, он в методе. Гений – это конденсатор. Нельзя к нему прилагать мещанской морали, – я не осуждаю его, а восхваляю. Для меня же всякая революционность подлинна только в своей области. (...) Я не мыслю ни иных форм почитания, ни иных путей соучастия, кроме органических внутренних. Подражателем и „последователем» я быть не в состоянии». «Измены» и «отречения», о которых говорит Фрейденберг в Воспоминаниях, лежат для нее в иной плоскости, нежели расхождения в научных вопросах. Время показало, что слова о невозможности измен и отречении были сказаны ответственно: когда в 1950 г. марровцы «увидели всю порочность того теоретического пути, по которому шли наши исследования» (Мещанинов И.И. Письмо в редакцию газеты «Правда». – Правда. 04.07.1950), Фрейденберг в своем выступлении «По поводу языковедческой дискуссии» (30.07.1950) говорила о том, что она поддерживает в марризме и что в свое время она с убежденностью пришла в марровский лагерь, где кипела живая творческая мысль. А на рукописи «Лекций по теории античного фольклора» ею была оставлена следующая запись: «Критика теории Марра. которого я глубоко уважала, вызывалась чисто научными причинами. В разгар насильственного насаждения его теории я не могла предполагать, что последует за 1950 годом».
2 Признавая свое ученичество, Фрейденберг все же делает попытку заявить о своей самостоятельности: «Мне легко показать, – писала она, – исходя из хронологии работ Марра. свою полную самостоятельность. Но я ни одного года не прожила в свободной научной обстановке. Авторитет Марра и ортодоксальность его фанатичных учеников частью сбивали меня, неопытную, с толку, а частью давили и терроризировали. Но внутренне я очень скоро сбросила с себя всякое принуждение. Именно потому, что я встретилась с Марром с самостоятельной параллельной работой, я ценила, уважала и понимала Марра и органически не была в состоянии изменить ему. Марровское толкование имен Атенэ-Этаны, сделанное в 1924 году, имело предшествие в моей „Одиссее», где я устанавливала то же самое в 1922 году на сюжетном материале [Имеются в виду работа Марра «Смерть-преисподняя в Месопотамско-Эгейском мире» (Доклады Академии наук, 1924) и экстракт с опозданием опубликованной работы Фрейденберг: Сюжетная семантика Одиссеи Язык и литература. Т. 4. Л., 1929. – Н. Б.]. Открытая мною область сюжетосложения была вобрана Марром и влита в его общее учение о семантике слова и „речевой культуры». Его „Иштарь» вышла в 1927 году, а „Из поездки к европейским яфетидам» в 1925 году, „Смерть-преисподняя» и „Первый средиземноморский дом» в 1924 году [См.: Марр Н. Я. Иштарь. От богини матриархальной Афревразии до героини любви феодальной Европы Яфетический сборник. Т. 5. Л., 1927; он же. Из поездки к европейским яфетидам Яфетический сборник. Т. III. М.-Л., 1925; он же. Первый средиземноморский дом и его яфетические названия, у греков megaron, у римлян atri-um Известия Российской Академии Наук. 1924. С. 225–236 – Н. Б.]. Этим я хочу сказать, что с точки зрения объективной истории науки те выводы, которые я делала совершенно самостоятельно до знакомства с Марром и опубликовывала в 1923/34 годах, не могут быть от меня отняты только оттого, что и Марр опубликовал их в 1924 году. Между тем, весь мой труд тонул в Марре, а сама я причислялась к его ученикам. Впрочем, и тогда и потом мои достижения считались принадлежащими не мне, а марризму; напротив, все мои недостатки всегда приписывались мне одной. И сюжетология, и все, что я делала, шло на потребу Яфетического Института, где я работала даром. Конечно, это было огромное счастье, что я получила среду, полное понимание, друзей, горячее биение научной жизни, атмосферу большой науки. Но трагедия, которая вытекала для меня отсюда же, еще не была мне видна».
3 Речь идет о единственной прижизненной монографии: Поэтика сюжета и жанра (период античной литературы). Л., 1936. В период работы над «Поэтикой сюжета и жанра», предшествующий времени написания Воспоминаний, Фрейденберг вполне осознала двусмысленную роль, какую сыграл Марр в ее научной судьбе. «Во мне накипело в душе от Марра. Чем влиятельней он становился, чем насильственней он заставлял принимать свое учение и подлаживаться под политику, тем громче поднимался во мне негодующий протест. Я желала сбросить с себя гнет его имени, тяготевший над моей научной индивидуальностью: мне надоело терпеть гонение за недостатки его теории и отдавать в его приходную книгу свои научные достижения. Его клика, его камарилья, ничтожества, выдвигавшиеся им в ущерб науке, его недоступность, вырождение былых ею взглядов и привычек, партийная лесть и деспотизм – это все раздражало меня, вызывало во мне стыд, и я хотела отмежеваться от марризма. Столько лет борясь за Марра, я боролась за передовую мысль и ее независимости; теперь я видела, что она сама стала деспотичной, нетерпимой, неумной. Марр начал с расизма [»Расизм» применительно к учению Марра имеет совершенно специфический смысл. Начав с установления параллелей между грузинским языком и семитическими языками, Марр предположил для яфетической (грузинский, эламский, халдский) и семито-хамитской ветви общий праязык, которому соответствуют прараса и прародина. Постепенно Марр расширил семью яфетических языков, представляя их субстратом языков Средиземноморья. Но уже в 1923 г. Марр решает, что так называемые «расовые» языки (яфетические, индоевропейские, семитические) представляют собой только различные стадии в развитии единого языкового процесса. С этого времени «расизм» сменяется «палеонтологией речи», т. е., изучением доисторического состояния языка и закономерностей глоттогонического процесса на фоне диахронически изучаемой материальной культуры и социальной истории. Фрейденберг считала наиболее ценным у Марра те его исследования, которые находились методологически еще в русле традиционного языкознания, хотя им сопоставлялись и языки, считавшиеся неродственными. В настоящее время сравнительное языкознание оперирует значительным числом изоглосс, связывающих общеиндоевропейский с общекартвельским и общесемитским, наличие которых объясняется культурными контактами – Н. Б.] – и его „яфетический» период был самым блестящим и последовательным. „Четыре элемента» (см. статью И. М. Дьяконова, с. 180), порвав с расизмом, завели в теорию архетипов, если не мистики. Они как научная теория не умны и не красивы. Ввязываясь в разрешение всех наиболее важных вопросов. Марр понимал происхождение искусства по Веселовскому. Он думал выкарабкаться при помощи теории стадиальности; но какая она плоская, философски бедная, мещанская!» Фрейденберг делала попытки заявить о своем особом, неортодоксальном положении среди «друзей нового учения о языке», написать в предисловии к «Поэтике», что «путь отсутствия самостоятельности не всегда единственный для прихода к его (Марра) школе»; более десяти раз редактор возвращал текст предисловия: «Мне не только нельзя было высказать того, что накипело, и сбросить насильственное имя „ученика» Марра, но с меня требовали полного отказа от своего научного лица в пользу Марра и его школы. Полемизировать с Марром запрещалось, да я и не хотела этого, признавая только позитивную критику, путем своей собственной работы».
|