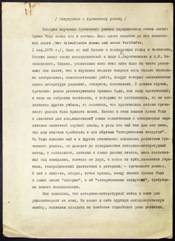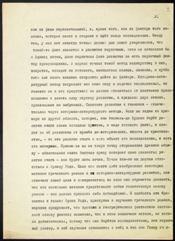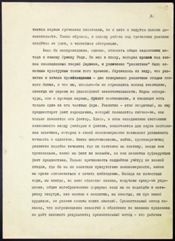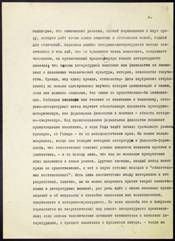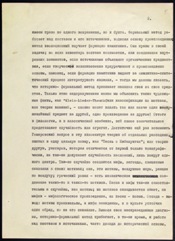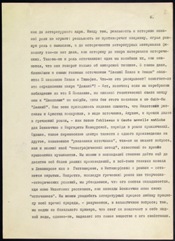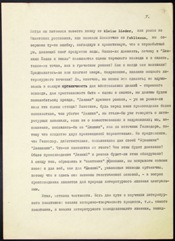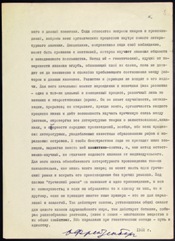Вступление к греческому роману. [Вариант предисловия к "Греческому роману"]
Машинопись сделана при подготовке архива в середине-конце 40-х гг.
Опубл.: [Вступление к греческому роману] / [публ. И. А. Протопоповой] // Диалог. Карнавал. Хронотоп : журнал научных разысканий о биографии, теоретическом наследии и эпохе М. М. Бахтина. – Витебск, 1995. – N 4. – С. 78–85. – То же. Электрон. дан. – Режим доступа:  http://nevmenandr.net/dkx/?y=1995&n=4&abs=FREJDEN
http://nevmenandr.net/dkx/?y=1995&n=4&abs=FREJDEN
Под буквенными сносками даны примечания редактора.
|
(Вступление к греческому роману)
История изучения греческого романа определяется очень легко: Эрвин Родэ начал его и кончил. Было много попыток до его знаменитой книги (Der Griechische Roman und seine Vorläufer, 1-е изд. 1876 г.) a, было их ещë больше в последующие годы; в частности, Россия имела своих исследователей в лице А. И. * Кирпичникова и А. Н. Веселовского. Однако, упоминание всех этих имëн было бы чисто условным: все знают, что в изучении каждого вопроса есть только несколько центральных, самостоятельных работ, вокруг которых наслаивается целая литература рецензий, отзвуков, компиляций. В данном случае, греческий роман рассматривался Эрвином Родэ, как жанр эротический; и если мы отбросим частности, с которыми то соглашались, то не соглашались другие учëные, то окажется, что эротическая основа греческого романа была принята всеми. Именно в этом смысле Эрвин Родэ и является для нас «классиком», самым законченным и совершенным выразителем известной научной школы, и роль его ещë так для нас жива, что нам незачем прибегать к его мëртвым «историческим заслугам». Но Родэ классик ещë и в другом отношении: занимаясь развитием греческого романа, он доводит до совершенства историко-литературный метод, и показывает, начиная с самых ранних этапов, весь постепенный ход созидания, сначала из двух, а потом из трëх, элементов «эротики, географической фантастики и риторики» – греческого романа. И вот с этой-то, второй, точки зрения, между эпохой Эрвина Родэ и нашей лежит «история», с еë «историческими заслугами», требующими нового исследования.
Нет сомнения, что историко-литературный метод в наши дни удовлетворяет не всех. Он носит в себе крупную методологическую ошибку, позволяя исходить из наиболее отдалëнной фазы развития,
a См. Rohde, 1876
|
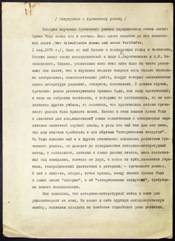 
|
|
как из фазы первоначальной, и, кроме того, как из фактора того явления, которое лежит в стороне и ждëт конца исследования. Между тем, у нас нет никогда точных данных для нашей уверенности, что такой-то факт является в развитии первичным, хотя он начинался бы с Адама; затем, даже первичная фаза развития есть не первичный фактор происхождения. В науках точных такой метод недопустим; в них, напротив, исходят из готового, имеющегося налицо, явления, и путëм того или иного анализа стараются дойти до фактора. Историко-литературный метод сохраняет всю свою силу в задачах эволюционных, но генезис не в его средствах: он должен отказаться от диагнозов происхождения и давать одну картину развития, в пределах двух этапов, произвольно им выбранных. Смешение развития и генезиса – отличительная черта историко-литературного метода. Если мы видим на примере из другой области, истории, как Фюстель-де Куланж берëт религию очага своим исходным пунктом, в виде готового факта, и следит за еë развитием от времëн до-исторических, вплоть до христианства, – то эта религия очага и есть объект его исследования, и есть его материал. Примем ли мы за такую точку отправления древнюю общину – обаятельная книга Фюстеля сразу потеряет свою ценность; религию очага – она будет жить вечно.a Точно так же мы должны относиться к Эрвину Родэ. Если его книга даëт изображение некоторых мотивов греческого романа в их историко-литературном развитии, она отвечает своей цели в совершенстве; но если она стремится доказать, что эти несколько мотивов представляют собою генетическую основу романа – она должна признать себя побеждëнной. И слабость эта бросается в глаза: Эрвин Родэ, приступая к изучению греческого романа, заранее предрешает, что эротика и географическая фантастика составляют основу романа; возможно, что в этом заключена истина, но истина догматическая, потому что она берëтся исследователем, как первичный фактор, и всë изучение начинается с неë; а так как Гомер счи
a См. Фюстель де Куланж, 1895
|
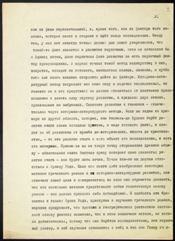 
|
|
тается первым греческим писателем, то с него и ведутся поиски доказательств. Таким образом, в основу работы над греческим романом кладëтся не факт, а чистейшая абстракция.
Было бы несправедливо, однако, относить общие недостатки метода к самому Эрвину Родэ. Он жил в эпоху, которая прошла под знаком эволюционных теорий Дарвина, и увлечение «развитием» было основным культурным тоном того времени. Упускалось из виду, что развитие и начала происхождения – две совершенно различные стадии всякого бытия, и что мы, сколько бы ни стремились вослед эволюциям, никогда не скроем их философской незначительности. Миром литературы, как и прочими мирами, правит соотношение, и эволюция есть только одна из его частных форм. Развитие – этап вторичный, но ему предшествует факт зарождения, который появляется сейчас же, как только покажется его фактор. Здесь, в этом неподвижном состоянии зависимости между фактором и фактом, заключается для науки постоянная величина, которая в своей закономерности позволяет улавливать точность и единство. Факты многочисленны, зыбки, противоречивы; развитие подобно течению; где ни поставим мы плотину, везде она произвольна, какой мы факт ни возьмëм, за ним окажется суфлирующим факт предшествия. Только причинность поддаëтся учëту; во всякой стадии, где бы мы ни заметили присутствие закономерности, имеем мы право остановиться и начать наблюдение. Исходя из известных норм, мы всегда, во всех областях знания, получаем сразу же упрощения, общие алгебраические формулы: если мы не подойдем к материалу изнутри, как анатом и аналитик, мы никогда, ни при какой эрудиции, не узнаем основы наших явлений. Сравнительный метод показал, что нагромождение аналогий и сближение по внешним признакам не даëт никакого результата; сравнительный метод – это рабочее
|
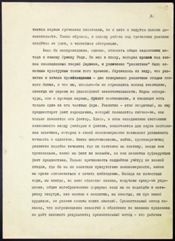 
|
|
подспорье, это химический реактив, способ перемещения в иную среду, которая даëт то же самое вещество в обстановке новой, годной для отличений. Коренная ошибка историко-литературного метода заключается в том ещë, что он принимает жизнь памятника, созданного человеком, за органический процесс внутри самого литературного явления; что законы литературной анатомии или физиологии он смешивает с явлениями человеческой культуры, истории, психологии творчества. Правда, мир един; правда, психология – дитя внутренних отправлений; но нельзя одновременно изучать историю цивилизаций и химию, хотя вне всякого сомнения, без химии не существовало бы цивилизации. Наблюдая эволюцию или генезис от памятника к памятнику, историко-литературный метод изучает обособленную плоскость культурно-историческую, как формальная филология и поэтика – область историко-творческую. Под происхождением формальная филология понимает происхождение памятника, и если Родэ ведëт начало греческого романа, примерно, от Гомера – то он методологически прав. Мы можем только возражать, когда нам говорят историки литературы и филологи-формалисты, что генетической основой романа являются основы эротики и фантастики, – и то потому лишь, что нам не показали присутствия этих элементов в самом романе. Другими словами, каждый метод имеет право на существование, и нет в науке готовых колодок и «обязательных постановлений». Есть лишь соответствие между материалом и его разработкой. Конечно, мы не можем возражать против теорий заимствования и литературных влияний, раз речь идëт о жизни писанных произведений и об импульсах и способах написания или возникновения, творческого и историко-культурного. Но если способы эти и импульсы переносятся на неорганический мир самого литературного произведения; если законы человеческие начинают смешиваться с законами литературными, а процесс памятника с процессом автора, – тогда мы
|
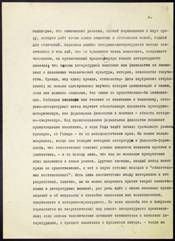 
|
|
имеем право не одного возражения, но и бунта. Формальный метод работает над составом и его источниками, выделяя основу происхождения; метод эволюционный изучает формацию памятника. Они правы в своей задаче; но если инвентарь состава понимается, как соединение внутренних элементов, если источниками объясняют органические предшествия, если творческое возникновение приурачивают к происхождению основы, наконец, если формацию памятника выдают за аналитико-синтетический процесс литературного явления, – тогда мы должны сказать, что историко-формальный метод принимает желания свои за свои средства. Только этим недоразумением можем мы объяснить такие чудовищные факты, как «Klein-Lieder-Theorie», или классификацию по мотивам, или теории влияний, – словно может влиять так или иначе один неодушевлëнный предмет на другой, одно произведение на другое! Оттого в филологии, и в классической особенно, всë самое замечательное представляет случайность или агрегат. Достаточно ещë раз вспомнить Гомеровский вопрос и эту знаменитую теорию об отдельных рапсодиях, сшитых в одну цельную поэму, как «Песнь о Нибелунгах»; или теорию другую, унитаров, которая отличается от первой только топографически, но так же допускает случайность наслоений, лишь вокруг единого центра. Так же случайно создаются мифы, легенды, священные сказания в своих мотивах; они, эти мотивы, воздушные шары, реющие по воздуху; греческий роман – есть механическое соединение таких-то и таких-то мотивов. Песни и мифы так же самостоятельны и случайны, как мотивы; из мотивов складывается сюжет, из мифов – мифологическое произведение, из песен – поэму. Отсюда – вывод: мотивы произвольны, а мифы ненадежны, и в культе устойчив один обряд, но не его сказание. Вынося свои несправедливые диагнозы, историко-формальный метод прибегает, в то же время, к работе над составом и источниками, часто доходя до исторической основы,
|
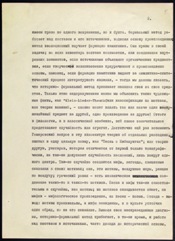 
|
|
как до литературного ядра. Между тем, реальность и историзм никакой роли не играют: реальность не противоречит жанризму, играя равную роль с вымыслом, а до историчности литературных материалов филологу так же нет дела, как историку до жанра материалов исторических. Такова же и роль источников: едва мы коснëмся их, как окажется, что они говорят только об авторской технике. В самом деле, ближайшим и самым главным источником «Деяний Павла и Феклы» является II послание Павла к Тимофею. Что же это раскрывает? помогает ли это определению жанра «Деяний»? – Нет, конечно; если мы перебросим наблюдение на это II Послание, мы никакой генетической связи между ним и «Деяниями» не найдëм, хотя без этого послания и не было бы «Деяний». Нам всем приходилось издавна слышать, что Милетские рассказыa и Аристид послужили, в виде источника, Апулею, и прошли далее в греческий роман, – как позже fablieauxb и Cento novelle antiche для Боккаччиоc и Маргариты Наваррской, перейдя в роман приключений. Однако, такое перенесение центра тяжести с одного произведения на другое, называемое «указанием источника», так же не меняет вопроса, как и всякий иной «топографический метод», известный со времëн крыловских музыкантов. Мы можем в нисходящей степени дойти ещë до десятка всë более ранних произведений, и всë-таки генезис новелл в Декамероне или в Гептамероне, в Метаморфозахd и романе – останется скрытым. Напротив, исследуя греческий роман вне творческо-исторических условий, мы убеждаемся, что его состав складывается, идя мимо Милетских рассказов, как новеллы Боккаччио мимо своих «источников». Мы можем уподобить литературный процесс любому процессу всей прочей природы, – разумеется, в аналогичном вопросе; так, мы видим из банального примера, что снег не заключает в себе жидкой воды, однако же, выделяет это самое вещество с его свойствами.
a См. Milesiaca
b См. Fabliau
c См. Боккаччо Джованни
d См. Apuleius, Metamorphoses
|
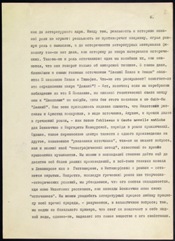 
|
|
Когда мы пытаемся вывести поэму из kleine Liedera, или роман из Милетских рассказовb, или новеллы Боккаччиоc из fablieauxd, мы совершаем ту же ошибку, наглядную и примитивную, что и первобытный ум, делающий снег продуктом воды. Можно ли доказать, почему в «Деяниях Павла и Феклы» появляются сцены тюремного эпизода и в склепе, такие же точно, как в греческом романе? Как и когда они возникли? Предполагать ли нам плагиат жанра, подражание, влияние мощного литературного течения? Да, конечно, мы можем это сделать; но вдумываясь в полную органичность для апостольских деяний – тюремного эпизода, для христианского быта – сцены в склепе, мы должны будем поколебаться; правда, «Деяния» древнее романа, – уж не роман ли взял эти сцены отсюда? Поистине, будь перед нами произведение более импозантное, чем убогие «Деяния», мы стали бы уже говорить о литературных влияниях, если не о заимствованиях и подражаниях; мы, несомненно, сослались бы на «Деяния» как на источник Гелиодора, потому что сходство двух произведений поразительно. Но предположим, что Гелиодор, действительно, пользовался для своей «Эфиопики»e «Деяниями». Что же изменится от этого? Что этим будет доказано? Общее происхождение «Деяний» и романа будет ли этим обнаружено? А между тем, обращаясь к «анатомии» «Эфиопики», мы вскрываем совсем иное: и для неë, как для «Деяний», указанные эпизод органичны, потому что и здесь они вызваны генетической основой, – а вопрос происхождения является для природы литературного явления центральным.
Итак, оставим частности. Есть два пути в изучении литературного памятника: анализ историко-творческого процесса, т.е. самого памятника, анализ литературного самодовлеющего явления, вошед
a См. Klein-Lieder-Theorie
b См. Milesiaca
c См. Боккаччо Джованни
d См. Fabliau
e См. Heliodorus, Aethiopica
|
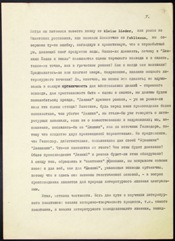 
|
|
шего в данный памятник. Сюда относятся вопросы жанров и происхождений, вопросы всех органических процессов внутри самого литературного явления. Дисциплина, направившая сюда своë наблюдение, может быть сравнена с анатомией, которая изучает явления общности и неподвижного постоянства. Метод еë – генетический, идущий от поверхности явления вглубь, обнажающий слой за слоем, пока не доходит он до неизменно и спокойно пребывающего соотношения между фактором и данным явлением. Развитие и формация не входят в его задачи. Для него начальный момент зарождения и конечная фаза развития – один и тот же цельный и самоценный процесс, различный лишь во внешних и второстепенных формах. Он не знает случайности, механизации, прорывов; он открывает, прежде всего, органичность каждого процесса жизни и даëт возможность изучать причинную связь между фактами, опровергая все литературные теории о заимствованиях, влияниях, о сборности народных произведений, вообще, обо всех процессах литературных, уподобляемых известным образованиями рифов и коралловых островов. В своëм бесстрастном ходе он проходит мимо эволюции, выдвигая вместо неë аналитико-синтез, и, как метод естественно-научный, не отличает видового явления от индивидуального. Для него жизнь обособленного литературного произведения так же показательна, как жизнь всего жанра; он может взять один греческий роман и вскрыть его происхождение без прочих романов. Под словом «греческий роман» он понимает и одно произведение, и всю их совокупность; и если он обращается то к одному из них, то к другому, если он приводит многие иные примеры – это не для параллелей и аналогий. Так действует анатом, устанавливая общий скелет для целого класса одушевлëнного мира, так действует ботаник, собирая разнообразные растения, физик и химик – многоликие вещества в их общих свойствах. Ибо параллели при генетическом методе – путь к единству.
1922 г.
О. Фрейденберг
|
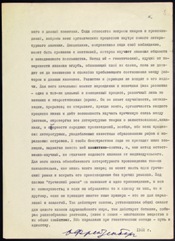 
|
![]() http://nevmenandr.net/dkx/?y=1995&n=4&abs=FREJDEN
http://nevmenandr.net/dkx/?y=1995&n=4&abs=FREJDEN