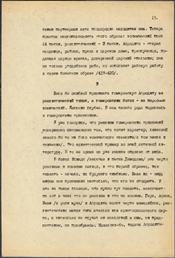скими партнёрами акта плодородия находится она. Теперь понятна многоплановость этого образа: космический план 14 песни, реалистический — 3 песни. Афродита — старая сводница, рабыня, пряха в царском доме, прислужница, поданная царице кресла доверенный царский спальник; она не только уподоблена рабе, но выполняет рабскую работу в своём божеском образе (413–420).
3
Было бы ошибкой принимать гомеровскую Афродиту за реалистический типаж, а гомеровских богов — за персонаж комический. Явление глубже. В нём своего рода параллель к гомеровским сравнениям.
Я уже говорила, что реализм гомеровских сравнений совершенно феноменален тем, что носит характер, лишённый какого бы то ни было комического элемента (в том числе и снижения1). Это единственный пример во всей античной литературе. В то же время он уже внешне отделен от мифа.
В богах Илиады (включая и песнь Демодока) все черты реализма и комизма налицо, и это первый образец, так сказать — начало, их будущего симбиоза. База их — миф; мифом они пронизаны настолько, что его не отодрать. И всё же самое главное, что нужно тут сказать, заключается вот в чём: это не реализм и это не комизм. Гера, Афина, Зевс (в роли мужа) и Афродита носят черты комедийных, реалистических масок типа ателлан или аристофановского фарса, а нисколько не служат ни аналогией к ним, ни предшествием, ни прообразом. Казалось бы, подача Афродиты-
Комментарии:
|
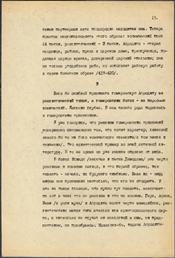
1 Реализму сравнений О. М. Фрейденберг посвятила неопубликованную работу  «Гомеровские сравнения» «Гомеровские сравнения» (1941) и статью: Происхождение эпического сравнения (на материале Илиады) // Труды юбилейной научной сессии ЛГУ. Секция филологических наук. Л., 1946. С 101—113. Фрейденберг показывает, что во всяком развернутом сравнении у Гомера есть два плана — мифологический и реальный. Замечательно, что сравниваемое всегда мифологично, а сравнивающая часть, то есть поясняющая, толкующая, содержит реалистические мотивы; как правило, мифологическое существо сравнивается со зверем, природой (бурей или огнем пли деревом) или с бытовыми предметами и явлениями. В «звериных» сравнениях дается картина растерзания жертвы хищником, в космических — картина разрушительной природы: буря, гроза, пожар, губительные звезды и т. и.; в растительных сравнениях от топора или во время урагана гибнут деревья, и акцент здесь не на агрессии (буря), а на «страдательности» гибнущего дерева; тут же сообщается о том, что из срубленного дерева что-либо изготовляют. Это дает понять связь таких сравнений, сопоставляющих внутри сравнивающей части активное и пассивное начала, со сравнениями бытовыми. Ведь бытовые сравнения в большинстве случаев повествуют о том, как нечто делается, изготовляется из природного материала. Категория страдания и гибели (претерпевания) превращается просто в пассив, в «страдательность», так сказать, грамматическую, «жертва» становится «материалом для обработки». В реалистической форме такие сравнения говорят о том же, что лежит в основа сюжета «Илиады»: о гневе, раздоре, нападении, поединке. «То, что в мифологическом плане было антитезой агрессивного хищника и его жертвы, то в понятийном плане обратилось в субъект и объект разрушения, а еще дальше в актив и пассив. Обе формы, однако, оказались равноправными в передаче двух возможных способов мироощущения. Они остались конструктивно спаянными, как единое двучленное предложение, в котором оба члена связаны уже пе безусловным равенством, а сопоставлением по принципу возможного равенства. [...] Природа обращается в быт, герои — в люден, боги — в пейзажи. Это происходит именно потому, что человеческое сознание уже умеет абстрагировать и обобщать. Мифологическая природа в Илиаде — это Посейдоны и Гефесты, Ириды и Гелиосы. Понятийная природа сравнений — это вода и огонь, радуга и солнце» («Происхождение...», с. 112).
|