родного пира, раз самое низкое побеждает» (394–404).
От головы Одиссея исходит сияние, но он, как Терсит, лыс: здесь метафора носит характер комико-бытовой, хотя образ солярный. Самая битва, типично дня Одиссея и в отличие от Илиады, метафоризируется бытовистически. Кружка, она же чаша для возлияний, падает на пол и разбивается — знак зловещий, указывающий на святотатство; комната покрывается тенью; среди женихов смятение и раздор; Одиссей подвергается проклятью. Вся сцена говорит о подземной семантике образов, тем более, что она заканчивается появленьем нового виночерпия, вестника Мулия, новых кратеров, возлиянием вина в честь богов, новым пиром и примиреньем (414–428).
Нельзя пройти и мимо того, что ‛вестник’ первоначально и ‛виночерпий’. Гибель одного виночерпия сменяется появлением другого; вестник Ир или Одиссей вызывают в одном случае — смех, благословенье, в другом — проклятье, раздор, тьму, разрушение, кощунство1.
В п. 20 Одиссеи находится ещё один вариант разобранных метафор. Одиссей подвергается инвективам и злым издевательствам со стороны женихов. Здесь имеется сцена с Ктезиппом («владетелем коней»), который характеризуется двумя эпитетными чертами смерти — нечестием и богатством (287–289); это богатство названо дословно «божественным» (289). Типично-хтоническое существо, Ктезипп, изображается злобным, грубым. Схватив из корзины ногу быка, он швыряет ею в Одиссея, как раньше Эвримах — ножной скамейкой. И тут Одиссей точно так же успевает во время отклониться и избежать удара, нога летит мимо, попадая в «прекрасно построенную стену» (302).
Комментарии:
|
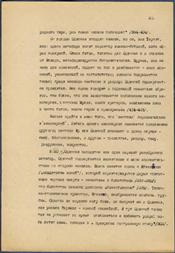
1 Семантика кэрпка, т. е. вестника и виночерпия в «Поэтике» поясняется так: «Первоначальным восхвалителем победы над смертью является... сам победитель... Победа над смертью — отвлеченное понятие; конкретные акты такой победы совершались во время разрывания зверя и омофагии (сыроядения). Отсюда — первый победный крик раздается пз уст того, кто убивает и разрывает жертву. Сперва это общественный вожак, тотем-божество; когда же жрец закалывает зверя в племенном обществе, он сам и возвещает о свершившемся священном акте. Мы так н видим в целом ряде мистериальных драм (т. е. представлений во время посвящения в религиозные таинства — мистерии в Древней Греции — Н. Б.): кульминационный момент таинства в том и состоит, что жрец объявляет посвященным о гибели божества, только что нарожденного вновь, о смерти, ставшей жизнью, о взросшем из тьмы новом молодом свете, о появившейся из земли свежей растительности. Первоначально такое возвещение отрывочно и кратко; это возглас победы над смертью, крик, дублирующий действо оживания; это, еще дальше, краткая формула, впоследствии переходящая в молитвенное славословие-рассказ-монолог. Мы знаем, что особые жреческие роды назывались кэриками (глашатаями, вестниками), что кэрики были и в мистериях, что они считались священными, божественными друзьями Зевса, наконец, демиургами (творцами мира) сами: кэриком был Гермес, подземное божество кэр. Кэрики — служители при жертвоприношении, выполняющие роль, которая еще не отделяет жреца от повара: они приносят в жертву животное, рассекают его на части и возливают виио, т. е. делают все то, что когда-то составляло разрывание зверя и выцеживание его крови. В связи с этим кэрики обращаются в виночерпиев при трапезах, в прислужников стола, подающих вино, воду для рук, мясо и хлеб и присматривающих за столом» (Поэтика сюжета и жанра. С. 185—186).
|