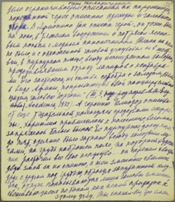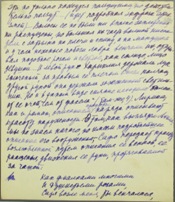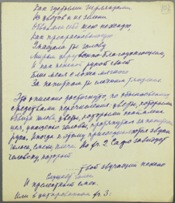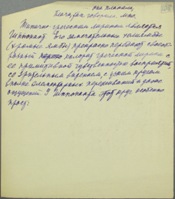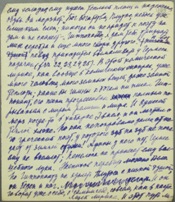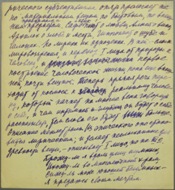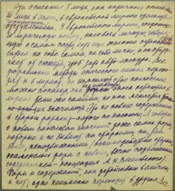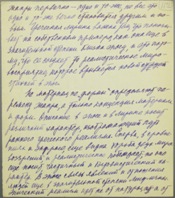Происхождение литературного описания
Опубл.: Фрейденберг О. М. Происхождение литературного описания / Ольга Фрейденберг ; публ. и примеч. Натальи Костенко при участии Нины Брагинской // Теория и история экфрасиса: итоги и перспективы изучения : колл. монография / Ин-т рег. культуры и литературовед. исслед. им. Францишка Карпиньского в Седльцах, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Гроднен. гос. ун-т им. Янки Купалы. – Siedlce : Instytut kultury regionalnej i badań literackich im. Franciszka Karpińskiego, 2018. – С. 28–76.
|
дело ограничивается очень схематическим описанием их наружности, переданной через описание одежды и головного убора. В Эфиопике так описан герой: «он тоже был на коне, в тяжелом вооружении и потрясал ясеневым копьем с медным наконечником. Шлема на нем не было, и с обнаженной головой участвовал он в шествии, в пурпурном плаще, всюду испещренном золотом, представлявшим борьбу лапифов с кентаврами. Его застежка, из сплава серебра с золотом, была в виде Афины, покрывающей свой панцирь, словно щитом, головою Горгоны» (III, 3, перевод А.Н. Егунова, «Academia», 1932). А героиню Гелиодор описывает еще тщательней, пользуясь средствами экфразы: «Хариклия приблизилась к колеснице, везомая запряжкой белых быков. Ее пурпурное, доходящее до пят, одеяние было заткано всюду золотыми лучами, на грудь наброшен пояс, на который художник расточил все свое искусство... он скрепил хвосты двух змей за их спиною, а шеи змеиные свились друг с другом под грудью, образуя запутанный клубок, откуда показываются лишь головы змеиные, свешивающиеся по бокам, как некий придаток к этому узлу. Ты сказал бы, что змеи
|
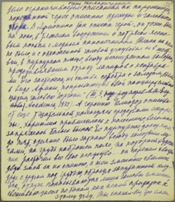 
|
|
эти не только кажутся ползущими, но действительно ползут... (идет подробная экфраза этих змей)... Волосы ее не были ни вполне заплетены, ни распущены, но большая их часть волной ниспадала с затылка на плечи и спину, а на макушке и у чела нежные побеги лавра венчали их, открывая подобное розам и светлое, как солнце, лицо девушки... В левой руке Хариклия держала лук золоченый, за правым ее плечом висел колчан, другой рукой она держала зажженный светильник. Но и в таком виде сияние исходило более от ее очей, чем от факела» (там же, 4). Лирика, как и роман, описанием красоты наряда описывают красоту наружности. О том, как выглядел Ахилл, мы не знаем ничего, но имеем подробнейшее описание его вооруженья, – Сафо передает красоту возлюбленной путем описания ее венков, ее умащенья, движения ее руки, протягиваемой за чашей:
fr. Как фиалками многими
И душистыми розами,
Сидя возле меня, ты венчалася,
|
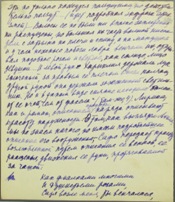 
|
|
Как густыми гирляндами
Из цветов и из зелени
Обвивала себе шею нежную,
Как прекрасноволосую
Умащала ты голову
Миром царственно-благоухающим,
И как нежной рукой своей
Близ меня с ложа мягкого
За напитком ты сладким тянулася.
Это описание достигнуто, по обыкновению, средствами перечисления: цветы, которыми обвита голова, цветы, которыми окаймлена шея, умащенье головы, протянутая за напитком рука. Иногда к этому присоединяются звуки голоса, смеха, плача. Во fr. 2 Сафо завидует человеку, который
...твой звучащий нежно
Слушает голос
И прелестный смех.
Или в цитированном fr. 3:
|
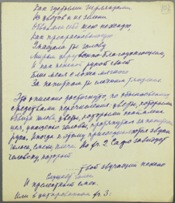 
|
|
...она плакала,
Плача, так говорила мне.
Типично-греческим лириком является Гиппонакт. Его замечательные холиямбы (хромые ямбы) прекрасно передают своеобразный колорит греческой лирики с ее примитивной чувственностью восприятий, со зрительным видением, с узким кругом вполне элементарных переживаний и даже ощущений. У Гиппонакта этот круг особенно прост:
|
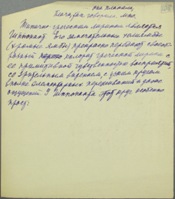 
|
|
ему холодно, ему нужен теплый плащ и надежная обувь. Он мерзнет. «Бог богатства, Плутос, небось уж слишком слеп; никогда он не придет к поэту на дом и не скажет – «Гиппонакт, я дам тебе тридцать мин серебра и еще много другого». И вот певцу приходится вымаливать у Гермеса подачки (frr. 22, 23, 24, 25). В этой комической лирике, как вообще в комических жанрах, уже много человека, много земных вещей, даже земной теплоты; какие бы гимны к богам ни писал Гиппонакт, его песни прогрессивны полным порываньем с миром религии и мифа. И Одиссей мерз когда-то в хибарке Эвмея; и он мечтал о теплой хлэне. Но как непоправимо далек от него греческий поэт, у которого зуб на зуб не попадает от зимней стужи! Афины у него нет, Гермес ему не внемлет; Пенелопа не принесет ему волшебного лука. Женихов перебить можно было. Но Гиппонакту не одолеть Плутоса с низкой душой; он беден и наг. И он говорит уже о себе, о самом себе, совсем, как в настоящей лирике. И этот путь ли
|
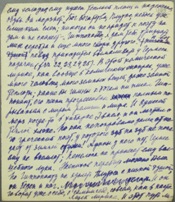 
|
|
рического субъективизма опять пролегает по материальным вещам, по бытовым, по внешним признакам и предметам. Сафо и Ивик поют о любви, Алкей о вине, Архилох о злобе и мести, Гиппонакт о шубе и галошах. Но лирика их одноценна. В ней – слом мировоззрения, и переход I лица от природы к человеку, и первое построение человеческой жизни, пока еще внешней, почти вещной. Теперь прямая речь переходит от космоса к реальному человеку, который начнет на многие века говорить о себе, и чем интимней он будет о себе рассказывать, тем слава его будет больше. Описание меняет роль. Из эпического оно становится лирическим; и делает неслыханные для древности вещи, – описывает I лицо, но не III-е.
Брожу ли я вдоль улиц шумных,
Вхожу ль во многолюдный храм,
Сижу ль меж юношей безумных –
Я предаюсь своим мечтам.
|
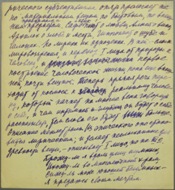 
|
|
Эти описания I лица, как античные описания III лица в эпосе, в европейской лирике сделаются лирическими отступлениями. У европейского лирика, создающего лирическую поэму, насквозь личную, говорящую о самом поэте, есть еще желание остановиться на себе самом, на себе лично, и он отступает от сюжета, чтоб дать авто-экскурс. Все формальные методы эпического письма переходят и в лирику, но изменяют свое назначение. Можно показать, как все элементы эпоса остаются в лирике теми же самыми, но как меняется их значимость. Это не новые содержания в старых формах. Я говорю о новом смысловом значении даже самих форм, которые и не бывают ни старыми, ни, тем более, неподвижными (взаимодействие старых, окаменелых форм с новым, вечно подвижным содержанием – концепция А.Н. Веселовского).
Форм и содержаний, как устойчивых величин, и нет; одно неизменно переходит в другое. Все
|
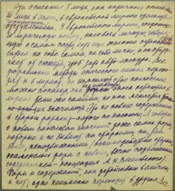 
|
|
жанры первично – одно и то же, но все это одно и то же вечно становится другим и новым. Греческая лирика важна тем, что показывает на собственном примере, как она еще в значительной степени близка эпосу, и это потому, что ее создает то реалистическое мировосприятие, которое врывается новой стихией в эпос.
Не материал, не «формы» определяют перемену жанра, а только концепция материала и форм. Описание в эпосе и в лирике носит различный характер, изображающий путь раннего греческого реализма. Сперва, в сравнениях и экфразе, еще видна борьба двух мировоззрений, и реалистическое побеждает; но оно еще носит частичный и бытовистический характер. В эпосе связь явлений и отношения людей еще в значительной степени мифичны. Эпический реализм идет не от натуры, а от
|
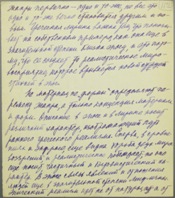 
|