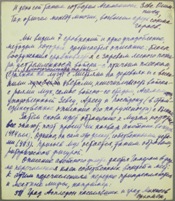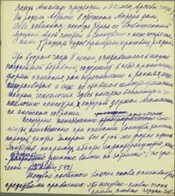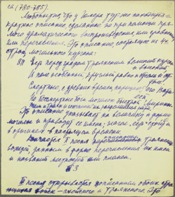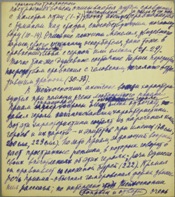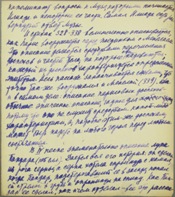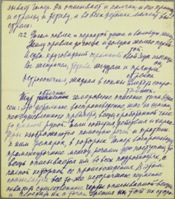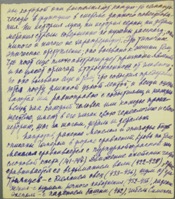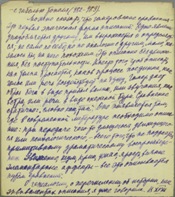Происхождение литературного описания
Опубл.: Фрейденберг О. М. Происхождение литературного описания / Ольга Фрейденберг ; публ. и примеч. Натальи Костенко при участии Нины Брагинской // Теория и история экфрасиса: итоги и перспективы изучения : колл. монография / Ин-т рег. культуры и литературовед. исслед. им. Францишка Карпиньского в Седльцах, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Гроднен. гос. ун-т им. Янки Купалы. – Siedlce : Instytut kultury regionalnej i badań literackich im. Franciszka Karpińskiego, 2018. – С. 28–76.
|
В день сей таким сотворил Агамемнона Зевс Олимпиец,
Так отличил между многих, возвысил средь сонма героев.
Мы видим 7 сравнений и одно уподобление, методом которых достигается описание: блеск вооружения сравнивается с заревом лесного пожара, устремленность войска – с птичьим плеском, стоянка на лугу многочисленной толпы – с листьями на деревьях и с весенними цветами, неисчислимость войска – с роями мух, самое войско – со стадом, Агамемнон, уподобленный Зевсу, Аресу и Посейдону (в этом – единственное описание его наружности) – с быком.
Затем снова идет обращение к Музам, которые все знают; поэт просит их назвать ахейских вождей (484 слл.). Однако, он сам это делает, собственными устами (493). Призыв Муз остается, таким образом, риторической фигурой.
Описание ахейского флота дается Гомером в форме перечисления имен собственных вождей и мест. К этим перечислениям нередко прикрепляются и местные мифы, например:
511 Град Аспледон населявших и град Миниеев Орхомен,
|
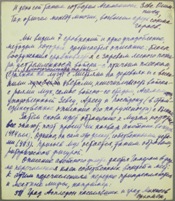 
|
|
Вождь Аскалаф предводил и Иялмен, Ареевы чада;
Их родила Астиоха в отеческом Актора доме,
Дева невинная: некогда терем ее возвышенный
Мощный Арей посетил и таинственно с нею сопрягся.
С ними тридцать судов прилетели, красивые, рядом.
Эта вторая часть II песни, считавшаяся в науке позднейшей вставкой, содержит в себе архаические формы описания, как перечисление и ранняя, еще недоразвитая и еще не ставшая самостоятельным жанром, генеалогия. Здесь уместно вспомнить и генеалогию скипетра, который держал Агамемнон на ахейском собрании.
Некоторые этнографические элементы, неизбежные при описании воинства далеких народов, даются Гомером все в той же форме одних эпитетов; например, абанты характеризуются, как «отпускавшие длинные волосы на затылке» (по-гречески – эпитет, 542).
Шествие ахейского войска снова описывается средствами сравнения: это шествие – словно огонь земли, словно перуны Зев
|
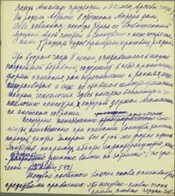 
|
|
са (780 – 785).
Любопытно, что у Гомера тут же находится и кратное описание, сделанное не при помощи прямого драматического воспроизведения, или сравнения, или перечисления. Это описание, состоящее из 4-х строк, могильного кургана:
811 Есть перед градом троянским великий курган и высокий,
В поле особенный, круглый равно и отсель и оттоле.
Смертные, с древних времен, нарицают его Ватиеей,
Но бессмертные боги могилою быстрой Мирины.
Там и троян и союзников их разделилися рати.
Это описание указывает на величину и форму могилы и приводит ее имена; глагол «есть» стоит и в оригинале в настоящем времени.
Кончается II песня описанием троянских вождей, данным в форме перечисления их имен и названий местностей или племен.
3.
III песня открывается описанием обоих строющихся* войск – ахейского и троянского. Это
|
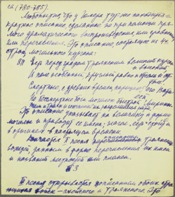 
|
|
построение кричащего троянского войска описывается путем сравнения с полетом птиц (1–7); молчаливый поход ахейцев и пыль от их ног сравнивается с туманом над стадом, способствующим ночному вору (10–14). Описание психики Менелая, увидевшего Париса, своего оскорбителя, дано тоже в сравнении со встречей льва с серной или оленем (21–29). Точно так же душевное состояние Париса передается посредством сравнения с человеком, нечаянно встретившим дракона (30–37).
В Тейхоскопии ахейские вожди характеризуются при помощи очень любопытного приема: Приам спрашивает Елену об ахейских героях, Елена отвечает, давая героям характеристики. Вот эти характеристики состоят из наречения имен героев и их царств – и эпитетов при именах (178 слл.; 200 слл.; 229 слл.). Но зато Приам, задающий вопросы, дает пространные реплики, в которых говорит о своих впечатлениях об этих героях; речи Одиссея он сравнивает со снежной бурей (222). Прямая речь Приама – обычная гомеровская форма движения рассказа; но интересно, что вопросы и ответы в Тейхоскопии очень
|
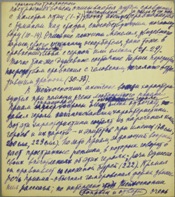 
|
|
напоминают вопросы к Музе, которыми начинается Илиада и некоторые ее части. Самая Илиада есть развернутый ответ Музы.
В стихах 328–338 великолепно описывается, как Парис вооружается перед поединком с Менелаем. Это описание делается средствами перечисления доспехов и частей тела, на которые они надеваются; каждый из доспехов характеризуется определенным эпитетом. Весь пассаж заканчивается словами, что точно так же вооружался и Менелай (339). Да и в самом деле: описание парисовых доспехов – обычное эпическое описание, годное для всякого действующего лица, потому что оно не служит средством какой-либо характеристики, а, подобно этим же доспехам, может быть надето на любого героя перед любым состязанием.
В IV песне знаменательно описание лука Пандара (105 слл.). Дается вся его история: он сделан из рога серны, а серна хотела спрыгнуть с камня, когда Пандар, подстерегавший ее в засаде, попал ей стрелой в грудь и опрокинул на спину. Как Пандар его сделал, как и чем отделал – все это расска
|
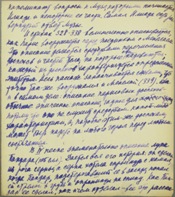 
|
|
зывает Гомер. Он описывает и колчан, и его крышку, и стрелы, и тетиву, и во всех деталях момент выстрела:
122 Разом повлек и пернатой ушки и воловую жилу;
Жилу привлек до сосца и до лука железо пернатой;
И едва круговидный огромный свой лук изогнул он,
Рог заскрипел, тетива загудела и прянула стрелка
Остроконечная, жадная в сонмы влететь сопротивных.
Тут обычное гомеровское описание типа Одиссеи: это детальное воспроизведение, шаг за шагом, неодушевленного предмета, вещи, сработанной чьей-то умелой рукой. Если события, действия и характеры изображаются помощью речей и кратких к ним ремарок, в которых Гомер воспроизводит промежуточные между речами поступки, то вещь описывается им во всех подробностях, с полной историей ее происхождения*. В этом сказывается все то же историческое неуменье охватить существенные черты описываемой вещи и передать их с точки зрения той их сторо
|
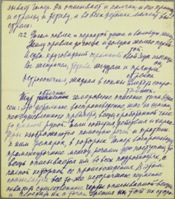 
|
|
ны, которой они выполняют какую-то семантическую функцию в системе данного повествования. Ни история лука, ни история серны, ни детали метания стрелы совершенно не нужны рассказу; они никого и ничего не характеризуют. Это типичное эпическое отступление; оно вызвано к жизни тем, что поэт еще плохо абстрагирует признаки явлений и не умеет отличать второстепенное от главного; но оно вызвано еще и тем, что события представляются поэту длинной узкой лентой, и вещи оцениваются им равноправно с событиями, и каждая вещь, как каждый человек или каждое происшествие, имеют в его глазах свою генеалогию и свою историю, шаг за шагом, деталь за деталью.
Напротив, ранение Менелая и эпизоды битв описаны Гомером в форме сравнений. Кровь на теле Менелая сравнивается с пурпурной окраской слоновой кости (141–147). Движение ахейских частей сравнивается со вздыманием волн (422–429), крик троянцев – с блеянием овец (433–436), шум от сражения – с шумом речного наводнения (452–456), падение Эхепола – с падением башни (462), гибель Симоиса
|
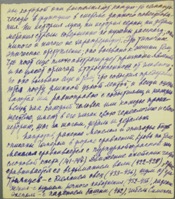 
|
|
– с гибелью тополя (482–489).
Можно сказать, что гомеровские сравнения – это первая эпическая форма описаний. Одно явление уподобляется другому, им выражается и определяется; не само по себе, но по аналогии с другим, мало, казалось бы, на него похожим. Это описание без движения, без поступательности. Вместо того, чтоб описать, как толпа бросается, каков процесс поединка, как голос или речь воздействует на душу, Гомер дает образ бега в виде прибоя волны, или звучания, как ветра, или речи в виде снежной бури. Сравнение статично: «словно как, так»; оно не знает чувства длительности. Появляется оно там, где в современной литературе необходимо описание: при передаче чего-то длящегося, движущегося или психологического, – всего того, что не поддается примитивному драматическому воспроизведению. Движение, шум, крик, ужас, ярость, всякие элементарные аффекты – все это описывается путем сравнений.
О генеалогии, о перечислении, об истории, как эквивалентах описания, я уже говорила. В XVIII
|
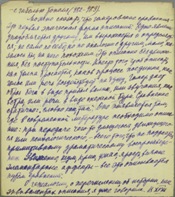 
|