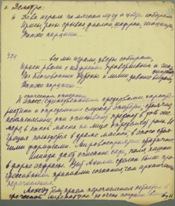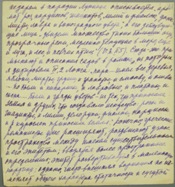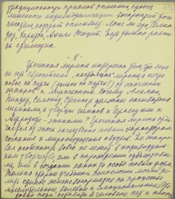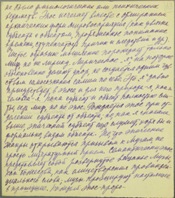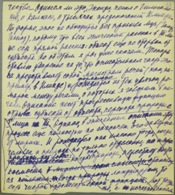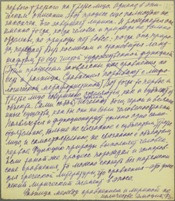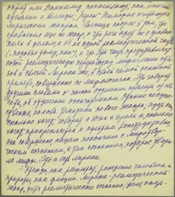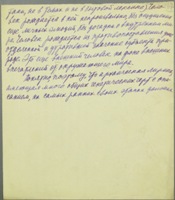Происхождение литературного описания
Опубл.: Фрейденберг О. М. Происхождение литературного описания / Ольга Фрейденберг ; публ. и примеч. Натальи Костенко при участии Нины Брагинской // Теория и история экфрасиса: итоги и перспективы изучения : колл. монография / Ин-т рег. культуры и литературовед. исслед. им. Францишка Карпиньского в Седльцах, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Гроднен. гос. ун-т им. Янки Купалы. – Siedlce : Instytut kultury regionalnej i badań literackich im. Franciszka Karpińskiego, 2018. – С. 28–76.
|
к Деметре:
6 Дева играла на мягком лугу и цветы собирала,
Ирисы, розы срывая, фиалки, шафран, гиацинты,
Также нарциссы...
424 ... все мы играли, цветы собирали,
Ирисы рвали с шафраном приветливым и гиацинты,
Роз благовонных бутоны и лилии, дивные видом,
Также нарциссы...
В эпическом описании единственными средствами характеристики и определения служат эпитеты; стоячие, необновляемые, неизменяемые, они описывают предмет в той же мере, в какой маска на лице определяет роль. И Греция пользуется в драме маской, в эпосе стоячими формулами. Мировосприятие статично.
Илиада дает описание сада, поля, пашни в форме экфразы. Щит Ахилла сделан более прогрессивными приемами сознания, чем архаические перечисления.
Между тем, прием перечисления остается в греческой литературе до очень поздних веков, и
|
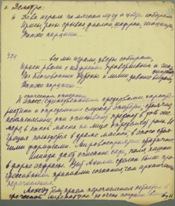 
|
|
недаром в пародии Лукиана описывается «аромат роз, нарциссов, гиацинтов, лилий и фиалок, даже мирты, лавра и виноградного цвета», а его действующие лица «увидели множество тихих больших озер, прозрачные реки, медленно текущие в море, еще и луга, и лес, и певчих птиц» (V.h. II 5). Сюда же примыкают и описания садов в романе, из которых я цитировала IV, 2 Лонга: «парк... имел вое деревья, яблони, мирты, груши, и гранаты, и смокву, и оливы... Но были и кипарисы, и лавровые, и платаны, и сосна... Были и гряды цветов – из тех, что приносила земля и других, что создавало искусство: розы и гиацинты, и лилии, дело руки; фиалки, нарциссы и курослеп приносила земля». Конечно, греческие романисты уже расширяют, раздвигают узкое пространство между именем существительным и его эпитетом; вводятся более пространные определения; эпитет развертывается в маленькую картину; однако, чисто внешняя вариация не изменяет общего характера статичности и сугубой
|
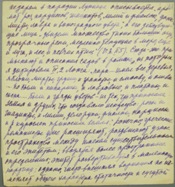 
|
|
традиционности приемов описания, сухого, лишенного индивидуализации восприятий того писателя, который описывает – Лонг ли это, Гелиодор, Харитон, Ахилл Таций. Есть только разница стилистик.
8.
Греческая лирика интересна тем, что еще не есть европейская «настоящая» лирика, а нечто новое на путях (только на путях!) от эпических жанров к лирическим. Почему Алкман, Пиндар, Семонид, Стесихор должны называться лириками, а творцы гимнов к Гермесу или к Афродите – эпиками? Греческая лирика отличается от эпоса качественно новым характером сознания и мироощущенья авторов. Ее жанровая особенность вовсе не лежит в индивидуальном творчестве, или в нарождении субъективизма, или в создании каких-то особо новых форм. Только старые учебники психологии могли делить единое жизневосприятие на процессы мыслительные, волевые и эмоциональные. Это давно пора оставить. В человеке нет и никогда
|
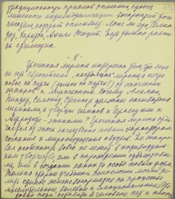 
|
|
не было физиологических или психических ведомств. Эпос исчезает вместе с отмиранием архаических форм мировосприятия (как увязка субъекта с объектом, протяженное понимание времени, ступенчатость причин и следствий и др.). Чистое образное мышление порождает только миф, но не лирику. Лирическое «я», на которое обыкновенно делают упор, не создается одним чувством самосознания самим по себе. Это «я» давно присутствует в эпосе, и для него природа – я, как и человек – я. Пока субъект и объект полностью слиты, есть миф, но нет эпоса. Рождается эпос при отделении субъекта от объекта; но, как я сказала выше, эпический субъект еще служит, хотя бы и формально, видом объекта. То, что эпические жанры открываются призывом к Музам, не просто литературный прием. Семантически, эпос представляет собой развернутое вещанье Музы, как божества, как олицетворения провиденциального слова; Музы проецируют настоящее в прошедшее. Каждый эпос – проро
|
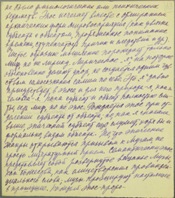 
|
|
чество – Одиссея ли это, Энеида, песня о Гильгамеше, о Калхасе, о тысячах предсказаний Илиады. По форме, эпос не обходится без призыва Муз (Гомер, Гесиод), потому что весь эпический рассказ в III лице есть прямой рассказ: объект еще не оторван от субъекта. Но об этом я раз уже сказала. Теперь ставлю ударение на то, что описательная часть эпоса представляет собой магистраль речей (как, например, в Илиаде) и формально рождается из тех увязок, ремарок между речами, о которых я говорила в начале. Описание несет прогрессивную функцию отрыва субъекта от объекта, перехода природы с
|
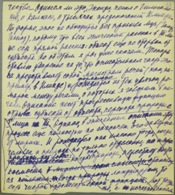 
|
|
первого-третьего на третье лицо. Однако, в эпическом описании этот процесс еще полностью не закончен. Его завершает лирика. И рождается она именно тогда, когда человек и природа не только отделены, но природы нет вовсе: когда она, природа, перестает быть космосом и становится ландшафтом, то есть чистой художественной функцией. Вот тогда-то первое и третье лицо совершенно отделяются, как и субъект от объекта. Сами собой, как субъекты, исчезают боги, герои и всякие иные существа, как бы они ни были человекообразны. Появляется и функционирует только одно самостоятельное, больше не связанное с субъектом, третье лицо, и самостоятельное, не связанное с объектом, первое. Функцию природы выполняет человек. Если такой же процесс порождал и гомеровские сравнения, то можно сказать без натяжки для греческой литературы, что сравнения – это уже некий лирический элемент в эпосе.
Разница между сравнением и лирикой не в количестве эмоций. Фе
|
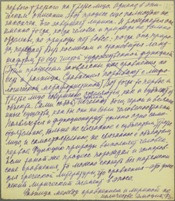 
|
|
окрит или Вакхилид показывают, как эпичны идиллии и баллады; «Персы» Тимофея считаются лирическим жанром. Разница скорее в том, что сравнения еще не жанр, и что речь идет не о сравнениях в целом, а об их одной реалистической части («подобно тому, как»), и что эта часть представляет собой реалистическую переработку мифических образов и связей. Лирика же, в своей самой основной примете, совершенно не мифологична. Это говорит другими словами о полном отделении субъекта от объекта, об отделении окончательном. Отныне несущественно, какова тематика нового жанра; пусть она, сколько хочет, говорит о богах и героях и, сколько хочет, прикрепляется к культам. Конструктивно, она совершенно, нацело покончила с мифотворческим сознанием, с тем сознанием, которое творило мифы. Это и есть лирика.
Отсюда, как результат, рождение человека и природы, как фикции. Лирика – реалистический жанр, дитя реалистического сознания (дело, опять
|
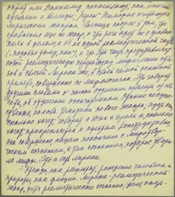 
|
|
-таки, не в темах и не в бытовой лексике). Человек рождается в ней непроизвольно, без ощущения еще личных эмоций, без догадки о внутреннем мире. Человек рождается из противопоставления уже отделенной и утратившей значение субъекта природе. Это еще внешний человек на фоне внешних впечатлений об окружающем мире.
Понятно, поэтому, что архаическая лирика, имеющая много общих генетических черт с описанием, на самых ранних своих этапах должна
|
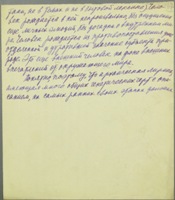 
|