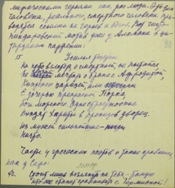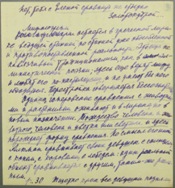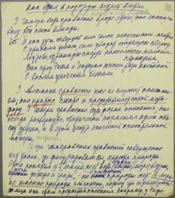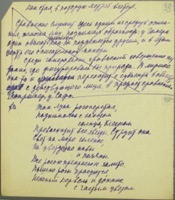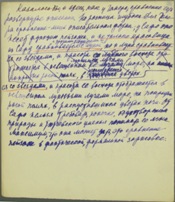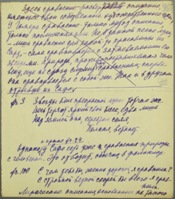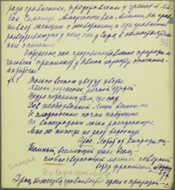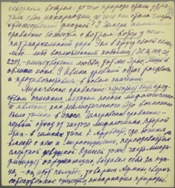Происхождение литературного описания
Опубл.: Фрейденберг О. М. Происхождение литературного описания / Ольга Фрейденберг ; публ. и примеч. Натальи Костенко при участии Нины Брагинской // Теория и история экфрасиса: итоги и перспективы изучения : колл. монография / Ин-т рег. культуры и литературовед. исслед. им. Францишка Карпиньского в Седльцах, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Гроднен. гос. ун-т им. Янки Купалы. – Siedlce : Instytut kultury regionalnej i badań literackich im. Franciszka Karpińskiego, 2018. – С. 28–76.
|
мифическими героями как раз люди. Это для человека, реального, смертного человека приводятся ссылки на героев и богов. Вот чисто-пиндаровский мотив уже у Алкмана в цитируемом парфении:
15 Усилья [ж] тщетны.
На небо взлететь, о смертный, не пытайся,
Не дерзай мечтать о браке с Афродитой,
Кипрскою царицей, или
С дочерью прекрасной Порка,
Бога морского. Одне страстноокие
Входят Хариты в Кронидов дворец.
Из мужей сильнейшие –
Ничто.
Часты у греческих поэтов и такие сравнения, как у Сафо* надпись: «миф»?) :
fr. Стоит лишь взглянуть на тебя, – такую
Кто же станет сравнивать с Гермионой!
|
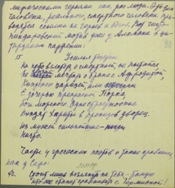 
|
|
Нет, тебя с Еленой сравнить* не стыдно
Золотокудрой...
Мифологизм остается в греческой лирике ведущей стихией, но стихией уже обособленной и противопоставленной реальности: в эпосе наоборот. Это, однако, еще не навязчивый традиционализм, как в эллинистической поэзии; здесь еще верят мифу и любят его по-настоящему, и не умеют без него обходиться. Перестройка совершается бессознательно.
Гомеровские сравнения с животными и растениями* оживают и в лирике, но в новом назначении. Тождество человека и животного, человека и цветка или светила и здесь порождает форму сравнения.* Но смысл его иной. Алкман сравнивает своих девушек с солнцем, с конем, с коровами, с лебедем: один реальный объект сравнивается с другим, таким же реальным.
fr. 30 Тщетно крик все девушки подняли,
|
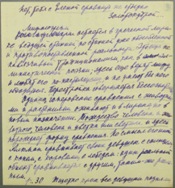 
|
|
Как стая, в которую ястреб влетел* .
У Гомера есть сравнение вроде этого; оно заканчивает XVII песнь Илиады:
755 И как туча скворцов или галок испуганных мчится
С криками ужаса, если увидят сходящего сверху
Ястреба, страшную смерть наносящего мелким пернатым,
Так пред Энеем и Гектором юноши рати ахейской
С воплем ужасным бежали.
У Алкмана сравнение* уже не служит описанием; оно кратко*, сжато и представляет собой метафору*. У Гомера сравнение есть форма описания; оно всегда развернуто, статически подменяя один объект другим, и в этом центр эпической описательной системы.
Среди гомеровских сравнений совершенно нет таких, где фигурировала бы красота природы. Этого понятия нет у Гомера. Есть стихии – волны, море, ветры, тучи дождя и града, – но пейзажной природы нет. В лирике именно природа пейзажна*, потому что из действующего лица она стала предметом описания. Например, у Сафо:
|
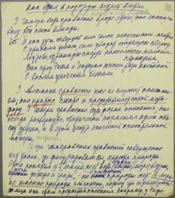 
|
|
fr. Так Луна розоперстая,
Поднимаясь с заходом
солнца, блеском
Превосходит все звезды. Струит она
Свет на море соленое,
На цветущие нивы
и поляны.
Все росою прекрасною залито.
Пышно розы красуются,
Нежный кервель и донник
с частым цветом.
|
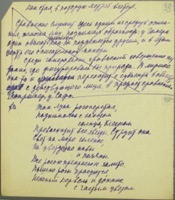 
|
|
Казалось бы, и здесь, как у Гомера, сравнение есть развернутое описание. Но разница глубока. Для Гомера сравнение – лишь описательная форма; у Сафо оно несет функцию пейзажа, и не только красавица* из Сард сравнивается с другими девушками и с луной*, но и луна сравнивается со звездами*, и красота ее восхода отображается в освещенном лунными лучами море, на покрытых росой полях, в распустившихся цветах ночи. От Сафо нельзя требовать, конечно, одухотворения природы и тютчевского уменья понимать ее язык. Максимум, что она может дать, это сравнение – пейзаж в фактической, формальной зарисовке:
|
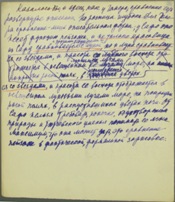 
|
|
fr. 3 Звезды близ прекрасной луны тотчас же
Весь теряют яркий свой блеск, едва лишь
Над землей она, серебром сияя,
Полная, встанет.
Однако, и кроме fr. 24 у Сафо есть уже сравнения природы с человеком. Это отводит, обычно, в фольклор:
fr. 100 С чем тебя бы, жених дорогой, я сравнила?
С стройной веткой скорей бы всего я сравнила.
Лирические описания, основанные на такого
|
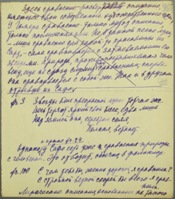 
|
|
рода сравнениях, представлены у греков в ямбах Семонида Аморгского. Как Алкман, он сравнивает женщин с животными, и эти сравнения развертываются у него, как у Сафо, в самостоятельные описания.
Интересно, как противопоставление природы и человека принимает у Ивика характер описания – антитезы:
fr. 1 Только весною цветут цветы
Яблонь кидонских, речной струей
Щедро питаемых, там, где сад
Дев необорванный. Лишь весною же
И плодоносные почки набухшие
На виноградных лозах распускаются.
Мне ж никогда не дает вздохнуть
Эрос. Летит от Киприды он, -
Темный, вселяющий ужас всем, -
словно* сверкающий молнией северный
ветер фракийский... и т.д.
И у Сафо эрос = ветер.
Эрос, божество, сравнивается здесь с природой – с
|
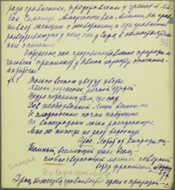 
|
|
северным ветром: до чего природа утратила свои инкарнации, до чего она стала чистой художественной фикцией! У Гомера немыслимо сравнение божества с ветром: ветер* у него – патриархальный царь Эол в кругу своей семьи, либо... либо возлюбленный кобылиц* (Il. 16, 149; 20, 220), – олицетворение любви, тот же Эрос, лишь иногда в облике коня. У Ивика древний образ раздвоен и противопоставлен, – в новом значении.
Лирическое сравнение, становясь метафорой и пейзажем, перестает быть средством описания*, методом показа мифологического явления, как реалистического. Это возможно было только в эпосе. Гомеровское сравнение – первый отход от чистого мифологизма. Второй этап – в гимнах типа К Афродите, где богиня, а вместе с нею и мироощущение, переодеваются смертной девушкой. Одиссей тоже часто мистифицирует окружающих, выдавая себя за купца, – он, этот полубог, товарищ Афины, сверхъестественное существо, инкарнация природы!
|
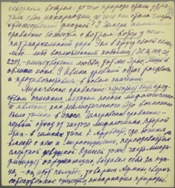 
|