Комическое до комедии — Лист 141
такой жанр начинал литературное становление.
Аристофановский фарс из-за своего политического характера подвергается неслыханной модернизации. Между тем, эта его «политийность» требует особого внимания. Перед нами своеобразная политика, та самая, которая служит главным элементом всякой фольклорной пародии. Мы знаем о ней по античному и средневековому богослужению и обряду, по институтам шутов и юродивых: инвектива направлялась именно на бога, именно на властителя, на всех, кто стоял сколько-нибудь на виду1. «Политический характер» фарсов Кратина далеко не то же, что политика английского парламентаризма, — а Кратина или Аристофана изображают Гоголями, Свифтами, Бомарше или Ювеналами. С конструктивной точки зрения, политичность фарса объясняется тем местом, какое занимала политика в фольклоре, верней, в фольклорной пародии. Мне уже приходилось в работе о Трудах Гезиода2 показывать генезис мотивов ‛политики’. Не хочу повторяться. Я считаю доказанным симбиоз ‛политики’ и ‛этики’ ещё в их мифологическом, до-литературном, состоянии; в самых древних образцах античной литературы политика представляла собой метафорическую облицовку утопии. Я показывала, что утопия ещё в фольклорном состоянии была формой космогонии. В греческой литературе утопия могла быть троякой: хозяйственной (мир, как идеальный дом: домострой), государственной (мир, как идеальное государство: политии) и космической (мир, как идеальная вселенная: теории гармонии). Древняя комедия — это пародия на политическую космогонию, одну из разновидностей государ Комментарии: |
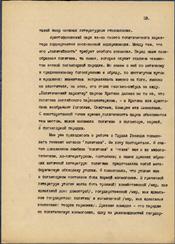 1 О понимании О. М. Фрейденберг пародии см. ее статьи: Идея пародии // Сборник в честь С. А. Жебелева (машинопись). Л., 1926. С. 378 и сл.; Происхождение пародии // Труды по знаковым системам. Тарту, 1973. Т. 6. С. с. 490—497 (год написания работы — 1925-й), а также: Поэтика сюжета и жанра (С. 100, 188, 239, 307, 322, 290 и сл. Пародия у Фрейденберг это не литературная форма, а результат архаического представления о двойничестве всего сущего. Пародия в этом смысле имеет целью утверждение бытия (постоянно оспариваемого вторым, «мнимым» его аспектом), «при помощи благодетельной стихии обмана и смеха» (Происхождение пародии, с. 497).
2 См. прим. 20. прим. к л. 138 |




