2. Комическое до комедии
[Предисловие Н. В. Брагинской]
Рукопись «Комическое до комедии» публикуется полностью, без изменений, с уточнением цитат и отсылок к цитатам; рукопись снабжена примечаниями составителя.
У работы «Комическое до комедии» есть две особенности, на первый взгляд никак не связанные между собой. Первая — то, что работа писалась в осажденном Ленинграде, вторая — то, что на собственные неопубликованные труды Фрейденберг ссылается так, словно читателю они могут быть известны. Нужно, наверное, представить себе человека, который много лет работал в идейной изоляции, не видел своих работ напечатанными (единственная опубликованная монография «Поэтика сюжета и жанра» таинственно исчезла с прилавков через пару дней после выхода в свет), представить себе ученого, который видит вокруг умирающий город, чтобы понять, что обращаться такой человек и ученый мог только к будущему. Перед лицом будущего и будущего читателя, тем более идеализируемого, чем меньше вероятия найти читателя труда о Гомере и Аристофане в осажденном Ленинграде, кажутся смешными, лишними ссылки и пояснения, и читателю в дали немногих, но недостижимых десятилетий приписывается и полная осведомленность я готовность все понять и обо всем догадаться.
шим последствиям. Только теперь появляется этическая катартика, только теперь ‛скверна’ и ‛чистота’ получают качественное значение. Правда, классическая Греция так и не доходит до понятий ‛греха’ или ‛порока’ с их противоположениями; она настолько архаична, что продолжает понимать скверну, как физическую грязь и — если позволено так сказать — как физическую грязь души, а под очищением понимает физическое снятие скверны, — хотя речь уже идёт о двух категориях этического порядка. Добро и зло, правда и кривда, порождают в Греции два основных этических образа, дику и гибрис, так сказать, вчерашних тотема и его антагониста, ныне две отвлечённости, но все ещё имеющие инкарнацию в виде двух богов.
Агрессия в её зените, торжество разрушительной силы получаем теперь, на языке квалифицирующего мышления, значение торжествующего зла. Фармак — уже не просто ‛человек’ или зверь; не хищник, нападающий на мирное животное; он становится носителем качественной, отвлечённой ‛скверны’ в форме ‛преступника’, или ‛приговорённого к смерти’, или ‛нечистого’ животного. Теперь это носитель гибрис, нечестивец. Весь мифологический план ‛комизма’ понятийно переосмысляется. Возникает понятие комического, уже без кавычек, суть которого заключается во временном торжестве кривды, или зла, или гибрис. Совершенно теми же путями понятийной транспонации идёт и мифологический бытовизм. Этизируясь, он начинает совпадать с линиями комического. И в самой ранней греческой литературе реализм уже сливается с комизмом, продолжая этот |
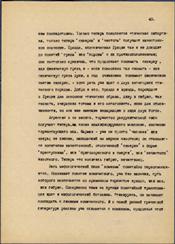 
|
симбиоз в продолжение всей античной литературы. Мы сразу встречаем его в трёх литературных жанрах — в басне, ямбической лирике и в фарсе. Отныне, покидая Гомера, нигде и никогда мы не встретим античного реализма, который не был бы комическим.
9 Из концепции качественности возникает дидактика. Она встречается в очень примитивном виде уже в фольклорных жанрах, каковы самые ранние наставления, пословицы, домострой, видения утопии, басни. Дидактика — это форма народной этики, ещё не ставшей ни религией, ни философией. Так, например, дидактичны Труды и дни Гезиода, в фундаменте которых лежит понятие возмездия, этической Дики и Гибрис, но в обрастании пословиц, с басней среди мифов и увещаний1. Если взять развёрнутое гомеровское сравнение и басню, специфика комического станет очень видна. В сравнении даётся описание агрессии отрицательного начала в космической, звериной, растительной, бытовой форме. От басни оно отличается только отсутствием комизма, то есть торжества качественного зла: оно отличается от басни отсутствием дидактики, но возмещает комическое — реалистическим, верней, до-этическим комизмом. Возьмём опять сравнение. 16,352 Словно свирепые волки на коз нападают иль агнцев, Их вырывая из стад, которым неопытный пастырь 1 Фольклорные жанры в поэме Гесиода Фрейденберг исследует в неопубликованной монографии «Семантика композиции «Трудов и дней» Гезиода» (1939). С трактовкой Дики и Гибрис как первоначально космических, а затем этических образов можно познакомиться но экстракту из части монографии «Что такое эсхатология?». (Труды по знаковым системам. Тарту, 1973. Т. 6. С. 512—514.)
|
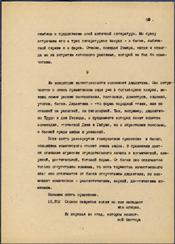 
|
Дал по горам рассеяться; волки едва их завидят,
Быстро напав, раздирают бессильных и трепетных тварей, — Так на троян нападали ахейцы. Это сравнение, не басня. Но стоит обобщить данный конкретный, единичный случай, стоит внести в него качественность, — и получится басня: «Неопытный пастырь дал своему стаду рассеяться. Свирепые волки, едва завидели это, и разодрали стадо». Не нужно нравоучения, — оно возникает само собой из обобщения: вот так всегда бывает, когда начальник неопытен. Торжество свирепых хищников — это торжество качественно-злой силы, гибрис. За басней, как в активной части сравнения, всегда стоит какой-то мир человека, к которому прилагается звериный, космический или растительный мир, одетый всегда в бытовизм; и в басне два плана, из которых один — реальный, другой — сказочный (говорящие звери, вещи, стихии), в генезисе — мифический, причём и в басне один план транспонирует другой, выражается и воспринимается сквозь другой, от него неотделим и представляет собой лишь иную его форму. Но в сравнении реалистическое выражает миф, в басне наоборот: сказка — форма реалистического. Как басня ни была бы серьёзна в своей дидактике, она всегда комична. Отныне признаком комического служит победа кривды. Именно такой, понятийный, этический комизм закрепляется в драме VI века, как другой аспект, активный, к пас |
 
|
сиям страдающих героев. Он доходит до нас, как комедия, и мы принимаем комедию за родину этого жанра, за его фактор. Между тем, не комедия создаёт комическое, а наоборот, понятийный комизм порождает особый план драмы, в известных условиях называемый комедией. Никогда в античности ни комедия, ни какое бы то ни было комическое не было независимым; комизм был только сопровождением, аспектом серьёзного, второй рельсой. Один и тот же, единый образ всегда выражается в двух формах, из которых одна, комическая, пародировала другую. Формальная двучленность сравнения и всякого античного предложения принимает характер двуплановости, внутренней омонимичности.
9 Несмотря на многие, дошедшие до нас, образцы античного народного фарса, самое верное о них представление даёт Аристофан. Его фарсы, подобно басне, бытообразны, хотя никто не назвал бы их реалистическими. Аристофан не был создателем таких фарсов, но он, по крайней мере, во многом сохранился. Все элементы древней аттической комедии были и до него: феерия у Магната, политика у Кратина, сатира на женщин у Ферекрата, загробные «конкурсы» у Фриниха; явные сюжетные предшествия Птиц, Всадников и Тесмофориазус, Лягушек и Облаков у Кратина, Фриниха и Евполида1. Это важно знать для того, чтоб представить себе аристофановский жанр ещё задолго до Аристофана; по-видимому, уже в VI веке, во второй половине, 1 О феерии у Магнета см. парабазу «Всадников» Аристофана, стих 520 и сл. Политическая антипериклова тема — основа Θρᾶτται и Χείρωνεσ Кратина. Ферекратова сатира на женщин — сценка Κοριαννώ, где героиня приходит в гости к трактирщице Глике. В «Музах» Фриниха происходило загробное состязание Софокла и Еврипида. «Птицам» соответствует подземная утопия в «Металлах» Фриниха, «Всадникам» — «Демы» Евнолида, «Тесмофорназусам» его же «Байты», «Лягушкам» — «Дионис-Александр» Кратина, «Облакам» — «Панопты (Всевидящие)» Кратина.
|
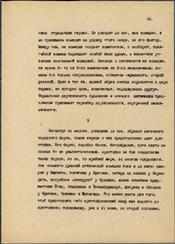 
|
такой жанр начинал литературное становление.
Аристофановский фарс из-за своего политического характера подвергается неслыханной модернизации. Между тем, эта его «политийность» требует особого внимания. Перед нами своеобразная политика, та самая, которая служит главным элементом всякой фольклорной пародии. Мы знаем о ней по античному и средневековому богослужению и обряду, по институтам шутов и юродивых: инвектива направлялась именно на бога, именно на властителя, на всех, кто стоял сколько-нибудь на виду1. «Политический характер» фарсов Кратина далеко не то же, что политика английского парламентаризма, — а Кратина или Аристофана изображают Гоголями, Свифтами, Бомарше или Ювеналами. С конструктивной точки зрения, политичность фарса объясняется тем местом, какое занимала политика в фольклоре, верней, в фольклорной пародии. Мне уже приходилось в работе о Трудах Гезиода2 показывать генезис мотивов ‛политики’. Не хочу повторяться. Я считаю доказанным симбиоз ‛политики’ и ‛этики’ ещё в их мифологическом, до-литературном, состоянии; в самых древних образцах античной литературы политика представляла собой метафорическую облицовку утопии. Я показывала, что утопия ещё в фольклорном состоянии была формой космогонии. В греческой литературе утопия могла быть троякой: хозяйственной (мир, как идеальный дом: домострой), государственной (мир, как идеальное государство: политии) и космической (мир, как идеальная вселенная: теории гармонии). Древняя комедия — это пародия на политическую космогонию, одну из разновидностей государ 1 О понимании О. М. Фрейденберг пародии см. ее статьи: Идея пародии // Сборник в честь С. А. Жебелева (машинопись). Л., 1926. С. 378 и сл.; Происхождение пародии // Труды по знаковым системам. Тарту, 1973. Т. 6. С. с. 490—497 (год написания работы — 1925-й), а также: Поэтика сюжета и жанра (С. 100, 188, 239, 307, 322, 290 и сл. Пародия у Фрейденберг это не литературная форма, а результат архаического представления о двойничестве всего сущего. Пародия в этом смысле имеет целью утверждение бытия (постоянно оспариваемого вторым, «мнимым» его аспектом), «при помощи благодетельной стихии обмана и смеха» (Происхождение пародии, с. 497).
2 См. прим. 20. прим. к л. 138 |
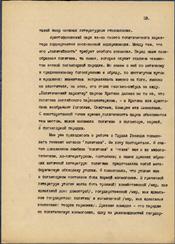 
|
ственной утопии. Повторяю, под пародией нельзя понимать нашего современного, вполне сознательного приёма ‛передразниванья’. Античная пародия возникает непроизвольно, как второй план мифа, как его другой аспект, как образ хтонической ‛тени’, в которой отсутствует настоящий, подлинный тотем.
Мнимость — вот основная природа пародии; она даёт, казалось бы, совершенно то самое, что представляет собой план подлинного тотема, но в нем всё мнимо, и ‛двойник’, ‛близнец’ тотема только кажется, только на короткое время, обманно прикидывается тотемом настоящим. Это ‛тень’ его, это он не настоящий, это дубликат его в смерти. Аристофановский фарс представляет собой пародию не в литературном, а в мировоззрительном смысле. Он пародирует не трагедию, а комплекс образов, разновидностью которых является и трагедия. В Птицах — утопическое царство в воздухе; его обитатели — птицы; птичья космогония (684 ss.) — необходимая часть этой комедии. Однако, это не просто утопия. Её специфика в том, что она представляет собой форму некоего «бунта» против богов и установленного свыше порядка. Это своеобразная разновидность титаномахии, чего-то подрывного, разрушительного. Мотив восстания против миропорядка — основной в древней комедии. 468 Надо всем вы царили, что есть, надо мной и над ним. Вы стариннее Зевса. Вы маститого древнего Крона древней, вы начальней и старше титанов, И земли1. 1 Комедии Аристофана здесь u далее цитируются в переводе Адриана Пиотровского.
|
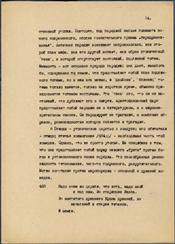 
|
Так лживо возбуждает Пифетер птиц. И птицы ему отвечают:
«Ты приходишь ко мне, посланный божеством и добрым как мой сотер» (544). В переводе теряются нюансы подлинника; оригинал звучит культово. Птицы возносятся душой. Они претендуют на свержение богов. 629 Я загордился от речей твоих. ... Правдиво, честно и храбро в бой на богов иди! И знаю я наверно, уж не долгий срок Богам тогда Мой порочить скипетр. Этот мотив перекликается с мотивами эсхиловского Прометея. Но Прометей — подлинный, достойный антагонист миропорядка, птицы — нет. Будь тут христианская религия, получился бы мотив апокалипсического антихриста с его лжеучением и лжецарствием. Сюжет Птиц разыгрывается в мифологическом плане. Но и здесь речь идёт о созидании царств и городов, о появлении нового спасителя: только вся такая «титаномахия» не имеет под собой почвы. Она мнима, утопическое государство — мнимое, спаситель — мнимый. Образы этического воздаяния слышатся и здесь, в устах птиц: 1062 В садах листву храню я, Гублю породу злую Зверей, зверушек мелких, Нечисть, пресмыкающихся в знойных виноградниках, |
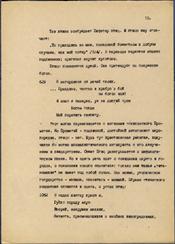 
|
Завязи зелёные гложущих безжалостно,
Гублю и тех, кто рощ красу Бесчестит ядом мерзостным. Хищники ползучие, кусучие Клювов не избегнут наших. Смертью алою все умрут. И рядом идёт перенесение этих идей на живых современников (1071ss.): личная инвектива служит средством воздаяния. Парабаза, частью которой служат приведённые пассажи, раскрывает себя: 1101 Судьям зрителям хотим мы кой о чём порассказать. Присудите нам победу, — счастьем мы осыпем вас! Таким образом, в этой парабазе птицы выступают в качестве судей-карателей и сами просят судей-зрителей о победе. В парабазе — образ до-этического, до-эсхатологического воздаяния. Пифетер, лжемессия, получает необыкновенное поклонение. Все вокруг него ликует. 1268 О, Пифетер! О мудрый! О единственный! (1271) Благословенный, славный, ослепительный! …За мудрость награждая, золотым венком Тебя венчают, славят племена людей. Пифетер — новый Зевс: 1750 Зевса копье, огненосное, вечное! (1745) Гулкие, тяжко гремящие, Влагу дарящие громы! |
 
|




