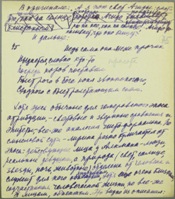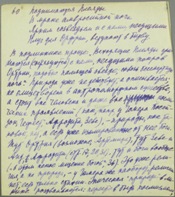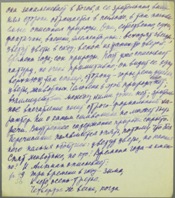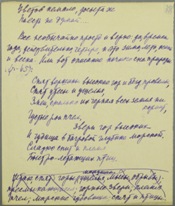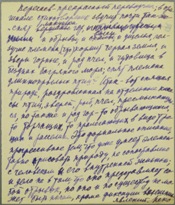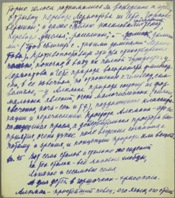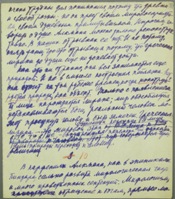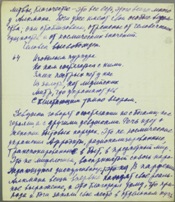Происхождение литературного описания
Опубл.: Фрейденберг О. М. Происхождение литературного описания / Ольга Фрейденберг ; публ. и примеч. Натальи Костенко при участии Нины Брагинской // Теория и история экфрасиса: итоги и перспективы изучения : колл. монография / Ин-т рег. культуры и литературовед. исслед. им. Францишка Карпиньского в Седльцах, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Гроднен. гос. ун-т им. Янки Купалы. – Siedlce : Instytut kultury regionalnej i badań literackich im. Franciszka Karpińskiego, 2018. – С. 28–76.
|
В оригинале: «А я пою свет Агиды: смотрю на нее, как на солнце, – Агидо доказывает, что оно блещет.»
И дальше:
45 Ведь сама она меж прочих
Выдается, словно кто-то
Посреди коров поставил
Быстрого в беге коня звонконогого,
Сходного с быстролетающим сном.
Хотя здесь обычные для гомеровского эпоса атрибуции, – световые и звериные сравнения и эпитеты, – все же аналогия чисто формальна. По смысловой сути – лирика резко отличается от эпоса: действующие лица у Алкмана – люди, реальные девушки, а природа (свет, солнце, звезды, ночь, животные) отделена от человека и служит для него спутником, хотя еще очень близким, соучастником человеческой жизни, но все же III лицом, объектом. Это видно из описания:
|
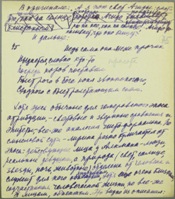 
|
|
60 Поднимаются Плеяды
В мраке амвросийной ночи
Ярким созвездьем и с нами, несущими
Плуг для Орфрии, вступают в битву.
В подлиннике проще: «Всходящие Плеяды сражаются (состязуются) с нами, несущими покров Ортрии, подобно палящей звезде, сквозь бессмертную ночь.» Природа уже не действует, а описывается; не олицетворена в антропоморфном существе, а стоит вне человека и даже вне космических проявлений (как были, напр., у Гомера Посейдон, Гефест, Афродита, Зевс), – природы, как таковой, нет, а есть уже изолированные от нее боги. Тут Ортрия (возможно, Артемида), тут Зевс и Аид, Афродита (стр. 17, 20, 31), тут и боги вообще («в этом некое мщение богов», 36). Это уже религия, а не природа, – у Гомера же наоборот, религии нет, есть только стихии. Эпическая ‛природа’ в лирике раздваивается: перестав быть космизмом,
|
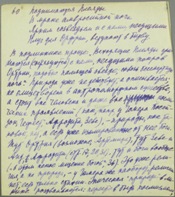 
|
|
она закаменевает в богов, а ее зрительная, внешняя сторона обращается в пейзаж, в так называемые описания природы. Они, естественно, сухи, фактичны, внешни, элементарны: всходят звезды; цветут цветы в саду; венок из цветов; времена года; сон природы. Поэт тоже списывает натуру, но очень примитивно; он видит ее одну верхнюю, так сказать, сторону, – горы, реки, деревья, цветы, животных. Человека в этой природе еще нет; взаимодействий между ними тоже нет; зрительное впечатление носит строго-формальный характер. Ни о каком символизме не может быть речи. Внутреннее содержание природы скрыто. Она еще не стала душевным миром человека. Перечисление появляется опять, потому что без него нельзя обойтись: цветут цветы, но какие? Спят животные, но кто? Времена года – а именно? И Алкман описывает:
Fr. 56 Три времени в году – зима,
И лето, осень – третье.
Четвертое ж весна, когда
|
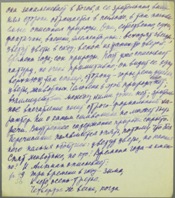 
|
|
Цветов немало, досыта ж
Поесть не думай...
Вcе необычайно просто и верно: да, времен года, действительно, четыре, и это зима, лето, осень и весна. Или вот описание ночного сна природы:
Fr. 58 Спят вершины высокие гор и бездн провалы,
Спят утесы и ущелья,
Змеи, сколько их черная всех земля ни кормит,
Густые рои пчел,
звери гор высоких
И чудища в багровой глубине морской.
Сладко спит и племя
Быстро-летающих птиц.
|
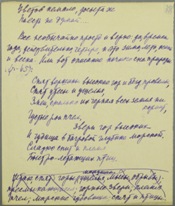 
|
|
Вересаев – прекрасный переводчик; в оригинале стихотворение звучит почти так же – «спят макушки гор, и обрывы, и выси, и ущелья, ползучие племена, (что) кормит черная земля, и звери горные, и род пчел, и чудовища в безднах багряного моря; спят племена длиннокрылых птиц». Итак – вот спящая природа, раздробленная на отдельные классы птиц, зверей, рыб, пчел, пресмыкающихся, но также и род гор – то обрывающихся, то торчащих, то пролегающих в виде трещин и расселин. Это формальное описание, прогрессивное тем, что уже умеет элементарно рисовать природу, не сопоставлено с человеком и его внутренней жизнью; и дело не в том, что оно представляет собой отрывок, но оно и по существу не может быть ничем, кроме фиксации внешних явлений. Неко
|
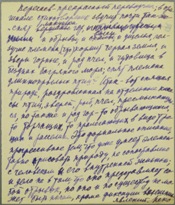 
|
|
торые голоса поднимались за возведение к этому отрывку перевода Лермонтова из Гете «Горные вершины», и даже с этой целью насиловали греческий текст, переводя «ущелья», «расселины» – «долинами» (чтоб сблизить с «тихими долинами» Лермонтова). Противопоставить эти два стихотворения полезно, конечно, в виду их полной чуждости: у Лермонтова и Гете природа воспринята философски, в ее извечном, по отношению к человеку, символизме, – у Алкмана природа состоит из формальных явлений, очень малочисленных (сияние, свечение, ночь=сон и т.д.), поддающихся классификации и перечислению. Простота Алкмана – это не кажущийся прием, а действительная простота восприятия, очень узкое поле видения сознания, а потому и зрения, и концепции природы или вещей.
Fr. 45 Вот семь столов и столько же сидений
На тех столах – все маковые хлебцы,
Льняное и сесамовое семя,
А для детей в горшочках – хрисокола.
Алкман – простейший певец; его язык, его стиль
|
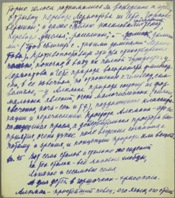 
|
|
очень трудны для понимания, потому что древни и своеобразны; но он прост своим мировосприятием, своим душевным примитивизмом. Впрочем, говорить о душе Алкмана можно только реконструктивно. В наших отрывках ее нет. И не потому, опять-таки, что это отрывки, а потому, что греческая лирика до души еще не успевает дойти.
Как это ни странно, она вся занимается еще природой. И не в смысле построения пейзажа. Нет, она стоит на том рубеже времен, когда конструируется природа, как объект. Только с появлением III лица нарождается лирика; мир обособляется, устанавливаются боги, реальный человек может просунуть голову и быть замечен. Греческая лирика – это мировой этап отделения и перехода III лица в I-е, I-го в III-е, – внутренняя перемена их функций. Роль природы переходит к человеку.
10*
В парфениях Алкмана, как в эпиникиях Пиндара, сильно развита мифологическая часть и много нравственных сентенций. Мифологизм, обращение к богам, прямые мо
|
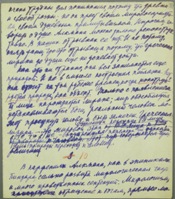 
|
|
литвы, благочестие – это все есть, этого всего много у Алкмана. Боги уже имеют свои особые ведомства; они стабилизованы, отрешены от человеческих сущностей и от космических значений.
Человек высвобожден.
64 Изобильем пурпура
Не нам состязаться с ними.
Змеек пестрых нет у нас
Из золота, нет лидийских
Митр, что украшают дев
С блистающим томно взором.
Девушки говорят о состязании не с богами, не с героями, а с другими девушками. Речь идет о женских бытовых нарядах. Это не космические украшения Афродиты, рационализированные, транспонированные в быт, в предметный мир. Это не гомеровский мифологизм, воспринятый сквозь нарождающуюся дискурсивность. В парфении Алкмана вещи впервые находят свое реальное выражение, и это благодаря тому, что природа и боги заняли свое место в отдельном купэ
|
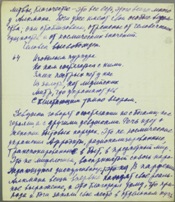 
|