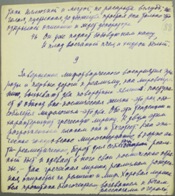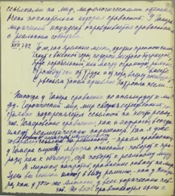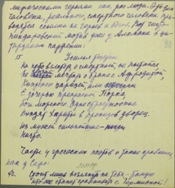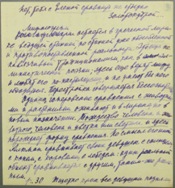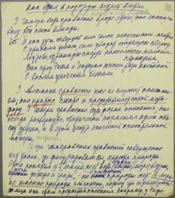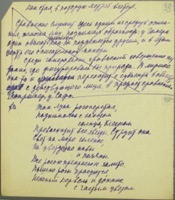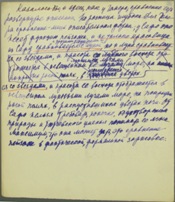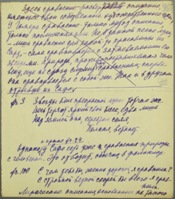Происхождение литературного описания
Опубл.: Фрейденберг О. М. Происхождение литературного описания / Ольга Фрейденберг ; публ. и примеч. Натальи Костенко при участии Нины Брагинской // Теория и история экфрасиса: итоги и перспективы изучения : колл. монография / Ин-т рег. культуры и литературовед. исслед. им. Францишка Карпиньского в Седльцах, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Гроднен. гос. ун-т им. Янки Купалы. – Siedlce : Instytut kultury regionalnej i badań literackich im. Franciszka Karpińskiego, 2018. – С. 28–76.
|
тана иллюзией и мечтой, не раскрыта вглубь; голая, пустынная, до убожества простая, она только что открылась описанию и ждет декоратора.
46 Он уж подаст бобовую нам кашу,
И плод восчаный пчел, и хидрон белый.
9*
Завершение мифотворческого восприятия природы и первые дороги к реализму, как мировоззрению, вызывают два поворотных явления: поступает в обиход вне-космическая жизнь – это раз, обособляется мифологизм – это два. Обе эти тенденции и характеризуют греческую лирику. К двум этим разрозненным планам она и тяготеет. Как эпическое гомеровское миросозерцание, в корне анти-реалистическое, берет для себя базой реальный быт и одевает в него свои космические образы, – так греческая лирика, реализмом рожденная, опирается на религию и миф. Хоровая лирика вся пропитана благочестием, воззванием к богам, рассказами о героях,
|
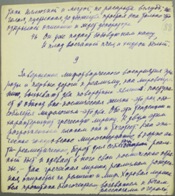 
|
|
ссылками на миф, мифологическими образами. Очень показательна история сравнений. У Гомера мифический инцидент оправдывается сравненьем с реальным событием.
ХVII, 742 Те ж, как яремные мески, одетые крепкою силой,
Тянут с высокой горы, по дороге жестоко-бугристой,
Брус корабельный, иль мачту огромную, рьяные вместе
Страждут они от труда и от пота, вперед поспешая, -
С рвеньем таким аргивяне Патрокла несли...
Никогда у Гомера сравненье не апеллирует к мифу. Героический мир, мир сверхъестественный, постоянно подкрепляется ссылкой на нечто реальное. Гомеровские сравнения, как и экфразы, всегда имеют реалистическую наружность. Как я уже говорила, введение элементов реалистичности, – прием сравнений, – у Гомера служит методом описания: поворот к природе, как к объекту, есть поворот к реальному миру.
В лирике, напротив, сравнение кивает на миф. Здесь все ссылки имеют в виду религию, – как у Пиндара, как у того же Алкмана, у всех хорических певцов. Но ведь сравниваются здесь с
|
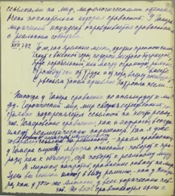 
|
|
мифическими героями как раз люди. Это для человека, реального, смертного человека приводятся ссылки на героев и богов. Вот чисто-пиндаровский мотив уже у Алкмана в цитируемом парфении:
15 Усилья [ж] тщетны.
На небо взлететь, о смертный, не пытайся,
Не дерзай мечтать о браке с Афродитой,
Кипрскою царицей, или
С дочерью прекрасной Порка,
Бога морского. Одне страстноокие
Входят Хариты в Кронидов дворец.
Из мужей сильнейшие –
Ничто.
Часты у греческих поэтов и такие сравнения, как у Сафо* надпись: «миф»?) :
fr. Стоит лишь взглянуть на тебя, – такую
Кто же станет сравнивать с Гермионой!
|
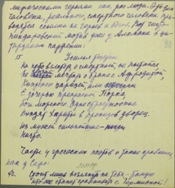 
|
|
Нет, тебя с Еленой сравнить* не стыдно
Золотокудрой...
Мифологизм остается в греческой лирике ведущей стихией, но стихией уже обособленной и противопоставленной реальности: в эпосе наоборот. Это, однако, еще не навязчивый традиционализм, как в эллинистической поэзии; здесь еще верят мифу и любят его по-настоящему, и не умеют без него обходиться. Перестройка совершается бессознательно.
Гомеровские сравнения с животными и растениями* оживают и в лирике, но в новом назначении. Тождество человека и животного, человека и цветка или светила и здесь порождает форму сравнения.* Но смысл его иной. Алкман сравнивает своих девушек с солнцем, с конем, с коровами, с лебедем: один реальный объект сравнивается с другим, таким же реальным.
fr. 30 Тщетно крик все девушки подняли,
|
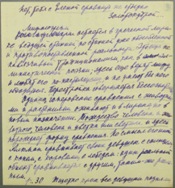 
|
|
Как стая, в которую ястреб влетел* .
У Гомера есть сравнение вроде этого; оно заканчивает XVII песнь Илиады:
755 И как туча скворцов или галок испуганных мчится
С криками ужаса, если увидят сходящего сверху
Ястреба, страшную смерть наносящего мелким пернатым,
Так пред Энеем и Гектором юноши рати ахейской
С воплем ужасным бежали.
У Алкмана сравнение* уже не служит описанием; оно кратко*, сжато и представляет собой метафору*. У Гомера сравнение есть форма описания; оно всегда развернуто, статически подменяя один объект другим, и в этом центр эпической описательной системы.
Среди гомеровских сравнений совершенно нет таких, где фигурировала бы красота природы. Этого понятия нет у Гомера. Есть стихии – волны, море, ветры, тучи дождя и града, – но пейзажной природы нет. В лирике именно природа пейзажна*, потому что из действующего лица она стала предметом описания. Например, у Сафо:
|
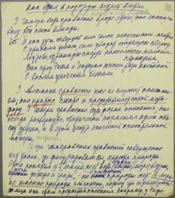 
|
|
fr. Так Луна розоперстая,
Поднимаясь с заходом
солнца, блеском
Превосходит все звезды. Струит она
Свет на море соленое,
На цветущие нивы
и поляны.
Все росою прекрасною залито.
Пышно розы красуются,
Нежный кервель и донник
с частым цветом.
|
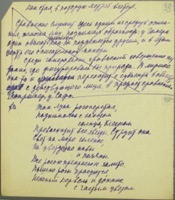 
|
|
Казалось бы, и здесь, как у Гомера, сравнение есть развернутое описание. Но разница глубока. Для Гомера сравнение – лишь описательная форма; у Сафо оно несет функцию пейзажа, и не только красавица* из Сард сравнивается с другими девушками и с луной*, но и луна сравнивается со звездами*, и красота ее восхода отображается в освещенном лунными лучами море, на покрытых росой полях, в распустившихся цветах ночи. От Сафо нельзя требовать, конечно, одухотворения природы и тютчевского уменья понимать ее язык. Максимум, что она может дать, это сравнение – пейзаж в фактической, формальной зарисовке:
|
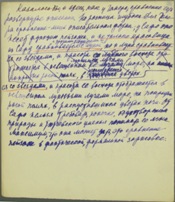 
|
|
fr. 3 Звезды близ прекрасной луны тотчас же
Весь теряют яркий свой блеск, едва лишь
Над землей она, серебром сияя,
Полная, встанет.
Однако, и кроме fr. 24 у Сафо есть уже сравнения природы с человеком. Это отводит, обычно, в фольклор:
fr. 100 С чем тебя бы, жених дорогой, я сравнила?
С стройной веткой скорей бы всего я сравнила.
Лирические описания, основанные на такого
|
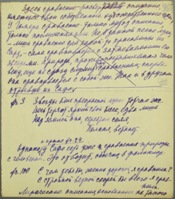 
|