2. Комическое до комедии
[Предисловие Н. В. Брагинской]
Рукопись «Комическое до комедии» публикуется полностью, без изменений, с уточнением цитат и отсылок к цитатам; рукопись снабжена примечаниями составителя.
У работы «Комическое до комедии» есть две особенности, на первый взгляд никак не связанные между собой. Первая — то, что работа писалась в осажденном Ленинграде, вторая — то, что на собственные неопубликованные труды Фрейденберг ссылается так, словно читателю они могут быть известны. Нужно, наверное, представить себе человека, который много лет работал в идейной изоляции, не видел своих работ напечатанными (единственная опубликованная монография «Поэтика сюжета и жанра» таинственно исчезла с прилавков через пару дней после выхода в свет), представить себе ученого, который видит вокруг умирающий город, чтобы понять, что обращаться такой человек и ученый мог только к будущему. Перед лицом будущего и будущего читателя, тем более идеализируемого, чем меньше вероятия найти читателя труда о Гомере и Аристофане в осажденном Ленинграде, кажутся смешными, лишними ссылки и пояснения, и читателю в дали немногих, но недостижимых десятилетий приписывается и полная осведомленность я готовность все понять и обо всем догадаться.
зываются с новым мышлением, которое впоследствии осмысляется, как нечто «низкое» в качественном смысле. Но это не природа самого жанра, ему органически присущая, а результат позднейшего условного понимания. Впрочем, я ещё не имею здесь в виду этики. Фольклорная комедия показывает, что этика рождается намного позже того, как возникает понятийное мышление с его новыми квалифицирующими процессами. Характеры и типы фольклорной комедии далеко не то, что характеры Теофраста или типы Менандра: в них ещё нет ни психологии, ни mores, морали. Между прочим, ещё никто не обращал внимания на то, что фольклор обладает богатым запасом комедий, но ни у одного народа он не имеет трагедии. А ведь это объясняется именно тем, что трагедия — этический жанр, настолько, сравнительно, поздний, что уже синхронистичен литературе, комедия же создаётся задолго до этики1, создаётся непроизвольно, в результате понятийного обобщения и квалификации, которому подвергается мифологический ‛комизм’ — другими словами, в результате новых реалистических процессов сознания.
Ни у Менандра, ни у Плавта комедия ещё не имеет этической, качественной, перипетии. Тут ещё нет идеи возмездия. Ход фабулы у Менандра не зависит от личных качеств или поступков действующих лиц. Хотя Харисий и неправ, он получает счастье. Хотя родители бросают своих детей, они их находят. Всё дело в том, как заведена пружина действия. И только. Аристофановская комедия оказалась совершенно неповторимой в веках, в то время, как комедия Менандра продолжает жить до сих пор. Так угасли все до-понятийные жанры — эпос, 1 Речь идет не об историческом возникновении комедии, которое датируется более поздним временем, нежели возникновение трагедии. Ключ к пониманию слов «создается задолго до этики» находится n тексте несколько ниже, там, где речь заходит о датировке и с п о л ь з о в а н и я до-этического материала. Этот до-этический материал используется в комедии, когда этика развита уже даже как философское учение и уже существует «этический» жанр трагедии.
|
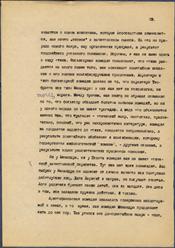 
|
гимны, космогонии, мифологемы различных видов. Но самая пародийность, лежавшая в основе возникновения аристофановской комедии, ещё долго создавала симбиоз фарса и пассий. А в самой античной литературе ‛комический’ аспект мифа имел в драме и в сценке большой и долгий отклик. Так создалась традиция комического сопровождения серьёзных мифов в форме гиларотрагедии, особого жанра, в котором продолжало жить мифологическое, до-качественное, понимание ‛комизма’. Это шла не комедийно-реалистическая, а комико-мифологическая линия, как у Гомера. Она тянулась из архаической древности вплоть до «Амфитриона» и Лукиана, с его двумя жанрами — мифологической пародией («разговора богов») и комедийным реализмом («разговоры гетер»). Еврипид, в этом отношении, не новатор, а архаик; он лишь возобновляет на новой основе древнее снижение священных сказаний и мифа1.
Слияние ‛комического’ и ‛реалистического’ происходит, не раньше самого конца родового общества: в классовом обществе уже рождается этика, религия и искусство. Совсем иное дело, как датируется использование до-этического или до-качественного материала, которое не совпадает с генезисом ни по времени, ни по последовательности. Героический эпос создаётся материалом мифа; в нём могут быть только вкраплены отдельные понятийные фрагменты. В VIII веке уже функционирует дидактика. В Трудах Гезиода много этического материала. В ямбической лирике реализм уже слит с комизмом: я имею в виду не Семонида Аморгского, а Гиппонакта. У Семонида никакой сатиры ещё нет, и его женщины так же близки фантастическим существам, животным, как герои 1 См. прим. 22 прим. 1. л. 141.
|
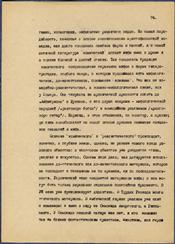 
|
Аристофана. Это не больше, чем травестия, чем пародия в античном смысле. Гиппонакт, напротив, представитель первого комического реализма (или реалистического комизма: можно называть, как угодно). Его обращения к Гермесу или к Плутону, пародируя гимны, совершенно реалистичны. Он просит у бога тёплой одежды и обуви. О Богатстве-боге он говорит:
Моей же Плутос (видно, точно крот, слеп он) Не навестил лачуги, не сказал: «Друг мой Любезный, вот те мин серебряных тридцать И прочих благ; уж больно ты душой робок1». Или такой фрагмент: Душе многострадальной будет жить туго, Коль не пришлёшь обратно ячменя меру, Чтоб мог похлёбку я состряпать мучную И есть её, как средство от невзгод жизни2. Тут, на первом же примере реалистического комизма, видна его главная отличительная черта: основная метафора ‛низа’ получает качественное (хотя и вне-этическое) значение. Реалистический комизм — или комический реализм — снижает высокое уже не в мифологическом, а в понятийном, квалифицирующем, отношении. Понятие комико-реализма говорит о ‛низкой’ действительности, о низких предметах, о низких ощущениях. Тут всегда господствует и побеждает низменное, так в басне и комедии, хотя бы в нём не было сюжетной перипетии или агона. Начиная с ямбической лирики VII–VI века, античная литература 1 Fr. 29 Diehl, перевод Ф. Зелинского.
2 Fr. 42 Diehl, перевод Ф. Зелинского. |
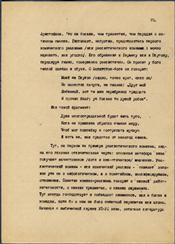 
|
понимает реалистическое, как комическое и как низменное1.
Интересно, что здесь же где-то на временной параллели, создаются предпосылки к Пармениду. Ещё совсем не показана и не раскрыта такая, казалось бы, странная связь, как комизма с философией2. Она была бы невозможным парадоксом, если б ‛комическое’ не пародировало космогонические мифы, входя в них, как аспект победы ‛жизни’ и рождения новых миров. В этом отношении, Парменид и Аристофан вовсе не несоизмеримые величины. В космогониях, циркулировавших, конечно, и до элеатов, реальное считалось мнимым. Философы занимались проблемами созидания космосов, уничтожения и появления новых миров, но не самым реальным миром, который до софистов никого не интересовал. Можно и в философских космогониях показать агоны правды и кривды (Парменид), созидательной и разрушительной силы (Эмпедокл), смерти и нарождения, то есть всё то, что потом становится структурой древней комедии. Совпадение понятий ‛реального’ с ‛мнимым’ вполне закономерно для сознания, которое отождествляло ‛бытие’, ‛истину’, всё ‛подлинное’, настоящее, с ‛тем светом’, а ‛этот’ принимало за нечто ‛кажущееся’, за фантом, лишь структурно напоминавший об ‛истинно-сущем’. Философия элеатов (да и платонизм, и позднейший европейский идеализм) была бы невозможна, если б космогонии не имели своего сопровождения в пародии, во втором аспекте мифа, в образе ‛смерти’ как псевдо-жизни. Если б в системах элеатов была этика, и если б кажущееся одерживало верх над истиной, если б не мировая Дика торжествовала, а мировая Гибрис, — получилась бы комедия. Но всё мнимое в космогонии досталось 1 Подробнее о параллелизме философии и комедии см. в разделе «Экскурс в философию» в кн. Фрейденберг О. М. Миф и литература древности. М., 1978, с. 269–282.
2 Подробнее о процессе размежевания «высокого» и «низкого» стиля и жанра в истории мировой литературы см. в главе «Вульгарный реализм» (Поэтика сюжета и жанра, с. 290 и слл.). |
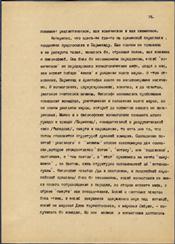 
|
комедийным жанрам, воплотившим идею ‛реального’, как ‛мнимого’. Это и была комедия Кратина-Аристофана-Евполида. Её реалистичность сказалась в пародии на утопию, которая представляла собой понятийную космогонию, где космосы с их гармонией обращены в идеальные государства с идеальной природой, а герои или боги в ‛смертных’ людей.
Материал, которым пользовались комики, был таким же древним, как эпос. Но этот материал уже преломлен сквозь понятийное отношение самих комиков. Космогонический смех, космогонический комизм транспонирован комиками в понятийный комизм, который мы и называем комедией. Это та же мнимая, кажущаяся ‛действительность’, что и в философии, то же мнимое созидание космосов в форме псевдо-утопических городов и государств, которые уничтожаются в огне (фронтистерий Сократа), подобно мировым пожарам в философии; те же сошествия в преисподнюю, что у орфиков1, свержение в тартар носителей смерти, что у Ферекида, парменидовские анодосы2, агоны добра и ала, раздача уделов и суд над правдой и кривдой, как в орфико-пифагорейских ферекидовских системах3. Вот эти мнимые царства и есть, с точки зрения мифа, ‛реальность’; никакой друг реальности ни миф, ни космогония, ни древняя комедия не знают. И у комиков мы видим ещё не понятийную, реалистическую действительность, а именно ту же самую, что и в философских космогониях, — пародию на мироздание, псевдо-бытие, преисподнюю этого света. Эпихарм — вот тип архаического философа-комика. У него пре-лукиановские две линии пародий: мифологическая (свадьба Гебы) и реалистическая (Надежда — с ролью паразита, Деревен 1 Основное содержание знания, которое получали посвящаемые в орфические мистерии — знание правильного загробного «маршрута» и правильного поведения в преисподней. Правильность этого знания удостоверяли орфические легенды о тех, кто сошел в преисподнюю и вышел оттуда. Таков сам Орфей, таков Эр в «Государстве» Платона.
2 Анодос — восхождение или путь наверх. В поэме Парменида путь к истине описывается как поездка на колеснице к воротам дня и ночи, где ожидает богиня Правды (Дика). 3 Принято считать, что орфико-пифагорейская традиция отразилась в рассказах о загробном суде Эра в «Государстве» Платона (614 b — 621 b), а также в «Горгии» (523 b — 527 а), «Федоне» (70 de. 80 с — 82 е), «Федре» (248 с — 249 d). |
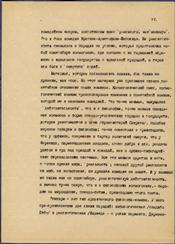 
|
щина, возможно — Мегарянка). Здесь, в Сицилии, в VI веке, философия и комедия идут рядом. Мегарский фарс, сицилийский мим, комедия Эпихарма — это всё глубоко уходящие в фольклор бытовистические жанры, идушие в стороне от пародий Аристофана. Достаточно знать, что народный фарс связывается с поваром Майсоном1, что мим есть не хоровая, а диалогическая сценка, что у Эпихарма действует типический паразит, чтоб сделать вывод о понятийно-бытовистической комедии, которая функционирует, вместе с философией, в древней Италии; италийские ателланы, мимы, экзодии2 соседят тут же. Это всё комедия свойств и типов, пусть ещё лапидарных; в ней, — хоть она и древней комедии Магнета и Хионида (Ar. Poet. 48–a33), — уже есть маски поваров, паразитов, хвастунов и т.д., и она носит комико-реалистический характер, в силу которого комическое и бытовое — это низкое. Аристотель прав, когда считает приметой комедийных жанров показ самого дурного и позорного (Poet. 49–a30).
В каком роде был мим Софрона или Ксенарха, неизвестно; но форма его была диалогическая, подобно философским диалогам, и когда Аристотель сопоставляет речи Сократа с мимами Ксенарха и Софрона, как нечто, не имеющее сходства по существу (Poet. 47-в 10–11), то уже этим он даёт право думать, что у них была общность формальная, — и это подтверждается его дальнейшим таким же противопоставлением Гомера и Ксенофана (47-в 16). По Диогену же Лаэртию известно, что Платон в своих диалогах следовал Софрону3. Если правы древние, указывающие на одинаковый жанр у Софрона и Феокрита4, то тут могли быть 1 Один из насмешливых драматических жанров назывался «майсоновским» от имени повара Майсона, якобы введшего маску повара-шута-философа: Athen. 39 с, 173 /, 659 а.
2 Ателланы ставились как развлекательная концовка — эксодий — после представления трагедии в Риме. 3 См. Diog. Laërt., III, 18. 4 См. аргументум грамматика к ХѴ-ой идиллии: «ои пересочинил поэму, исходя из «Зрительниц Истмий» у Софрона». |
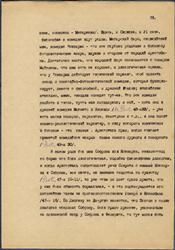 
|
те же два линии, мифологического и реалистического комизма (женщины на Истмиях Софрона, Сиракузянки Феокрита; Женщины, притягивающие луну, Колдуны Софрона, Колдунья Феокрита; Циклоп и Галатея Феокрита).
Что симбиоз философии и комедии закономерно существует уже в самой природе мифа, а дальше — в фольклоре, говорит комедийный персонам философствующего раба. В фигуре ‛смерти’, которая олицетворяется в ‛рабе’ или в ‛шуте’, в фигуре ‛болтуна’ —логос получает качественное содержание: инкарнация ‛низких’ свойств, такой ‛болтун’, раб-философ, шут-философ даёт подъёмный аспект космоса, космического ‛логоса’. Шуты недаром у Шекспира философы; они философы и у Плавта, и в древней Греции. Один из них — Сократ, ставший комедийным шутом только оттого, что был народным философом. Не только у Аристофана он гибрист, фармак, псевдо-мудрец и лже-учитель, инкарнация ‛мнимой’ реальности, ‛кажущегося’ космоса, который гибнет в огне. Он и у Платона гибрист, в устах Алкивиада (Pl. Symp. 215в, 219с; 175е). Этот шут — силен и сатир (ib. 215в), безобразный шут из пародии на космогонию, двойник космического Эроса, воплощение уранической бессмертной красота (216d), внешняя, видимая его часть, обманная его ‛наружность’. В Сократе — инкарнация двуединого космоса, мнимого и истинного, высокого и низкого, философского и комического. Побеждает в философско-комическом диалоге Платона он, Сократ, мудрец-шут, и это приведёт к теории единства серьёзно |
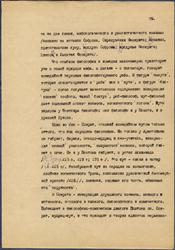 
|
го и смешного (223d).
Так идёт и дальше. Менандр — философ и комик, Теофраст — автор философских комико-реалистических ‛низких’ характеров-масок, Менипп, Варрон и Лукиан, — философ и пародисты. Мифологическая увязка серьёзного и смешного даёт в средние века сопровождение пассий фарсами1. И здесь, и в кукольном театре этот симбиоз узаконен фольклором и религией. В религиозной драме страсти божества перемежаются комико-реалистическими фарсами, в кукольном театре страстям отведён ‛верх’, фарсу — ‛низ’2. И это закономерно. Интермедия, интерлюдия, водевиль, экзодий, сатирикон, мим, — это всё своего рода фарсы, родившиеся из лона пародии страстей или их эквивалентов. Одни из них — антракты, другие — эпилоги или прологи. Я не берусь здесь решать, представляют ли ямбы до-реалистическое сопровождение хорового начала, и не лежит ли в эписодии, с его ямбическим преобладанием, очень древний, до-понятийный образ того, что впоследствии становится мимом, диалогической сценкой, фарсом, интерлюдией3, — в то время, как хор остаётся носителем страстей и доминантой драмы? Ясно одно: сатирова драма — ещё не комедия именно потому, что в ней нет качественности, что она даёт одно мифологически-смешное, и всё же именно она сопровождает, как ‛комический’ аспект, трагедию. В позднейшей испанской и английской драме (у Лопе-де-Вега, Кальдерона, Шекспира) чередование пассий и смеховой пародии находится внутри самой структуры трагедии. У Менандра эти две стихии выглядят несколько иначе: тут пара героев принадлежит миру пассий, а все осталь 1 Имеется в виду общеизвестный факт, что мистерии прерывались как антрактами комическими соти* и фарсами. Ср. Поэтика сюжета и жанра, с. 325 и сл.
2 См. об этом: Семантика постройки кукольного театра // Миф и театр / О. М. Фрейденберг. М.: ГИТИС, 1988. Гл. II. С. 15–17; Гл. X. С. 26. 3 О семантике ямбических частей трагедии см. раздел Мелика-ямбика в кн.: Фрейденберг О. М. Миф и литература древности, с. 397 сл.; о ямбе как жанре инвективы и насмешки см.: Поэтика сюжета и жанра, с. 110, 195, 288. |
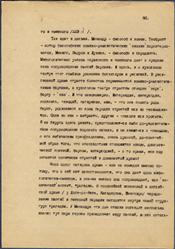 
|




