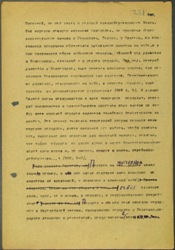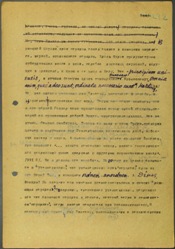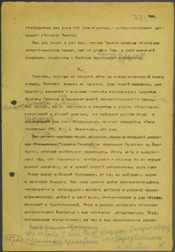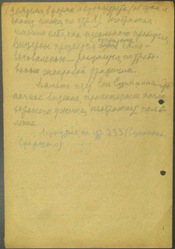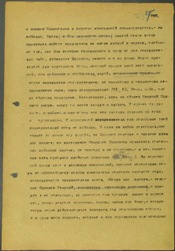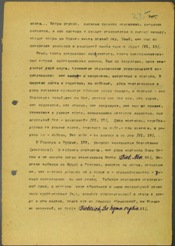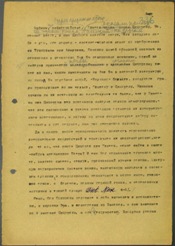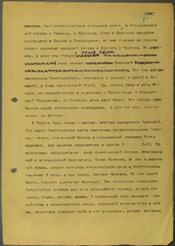9.2. Экскурсы. Утопия
Опубликовано: Утопия / публ., предисл. и примеч. Н. В. Брагинской // Вопросы философии. – 1990. – № 5. – С. 148–167. – То же. Электрон. данные. – Режим доступа:
 http://ec-dejavu.net/u/Utopia.htm
http://ec-dejavu.net/u/Utopia.htm.
Текст приводится по публикации, в примечаниях указаны ее страницы.
|
Прометей, но мог стать и молнией титаноборствующего Зевса, был мировым пожаром античных философов, но принимал форму зиждительного начала у Гераклита. Теперь, у Платона, он оказывался идеальным обитателем идеального царства на небе, и с ним увязывался образ небесного порядка. «Земной род движется в беспорядке, огненный — в полном порядке. Тот род, который движется в беспорядке, надо считать лишенным разума; так поступает большинство окружающих нас животных. Поступательное же движение, совершаемое на небе, в строгом порядке, надо принять за доказательство разумности» (982 А, В). И дальше Платон снова возвращается к идее «мирового порядка», который заключается в единообразном круговом ходе светил по небу; этот мировой порядок является «наиболее божественным из всего». Вот почему «человек счастливый сперва поражен этим мировым порядком, затем начинает его любить, чтобы усвоить его, насколько это возможно для смертной природы, полагая, что таким образом он всего лучше и всего благополучнее проведет свою жизнь и, по смерти, придет в места, подобающие добродетели...» (986 В, С).
Порядок на греческом языке значило космос, и это слово получило свое значение по аналогии со вселенной, с космосом в значении ‛небо’; orbis означало диск, круг, но и землю, и порядок, и государственное устройство. Порядок-космос стал мировым порядком в Философской утопии, гражданским порядком в Политиях, порядком домашним в домостроях, порядочностью в этике.
|
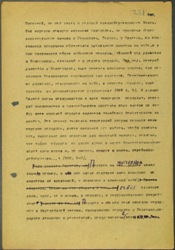 
|
|
В римской церкви идея порядка опять оживет в значении мирового, верней, вселенского порядка. Здесь будет предусмотрена субординация всего и всех, подобно лестнице ступеней, ведущих в единство, к царю и от царя к богу. Это — principium unitatis1, и лучшая формула здесь принадлежит Николаю Кузанскому: «Omnia enim, quae a deo sunt, ordinata necrssario sunt»2. Но церковный бюрократизм чужд Платону. Подобно Гезиоду, он увязывает исчисление дней и небесных светил с исчислением чисел. В одном месте Законов он говорит: «...всякое сочетание чисел, всякое гармоническое соединение имеет сходство с круговым перемещением звезд» (991 Е). Космос оттого означает и ‛установление’, что установление есть «порядок»*, одна из форм космоса (ср. в немецком ordnen, anordnen). А Θέμις, Фемида? Не есть ли она мировая установительница в смысле ‛делающая порядок’?3 Созидание, творческое установление, рождение: вот что означает «порядок-космос*, который тогда и становится ‛порядком’, когда заново рождается или устанавливается. И оттого Платону безразлично, рассказывать ли о возникновении
1 «Принцип (начало) единства» (лат.)
2 «Ибо все, что от Бога, подчинено необходимому» (лат.).
3 Имя Фемиды связано с корнем θεμ-, обозначающим полагание, установление, закладывание основы.
|
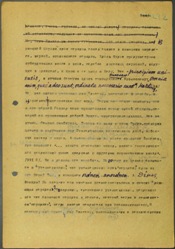 
|
|
государства или дать его установления,— регламентирующие идеальное общество Законы.
Как все равно и для нас, сам ли Платон написал последнюю космогоническую главу, или ее должен был в силу жанровой традиции приложить к Законам кто-то другой.
9*
Впрочем, никогда не следует идти на методологический оппортунизм. Уступок делать не следует. Даже такой эклектик, как Цицерон, заявляет о желании отстоять органическое единство Законов Платона с их заключительной «космогонической» главой — и ... с образами Гезиода. Как всегда, Цицерон выступает с открытым и резким убеждением; остроумный и тонкий адвокат, он избирает другую форму и предлагает нам свое О государстве, которое кончается «Сном Сципиона» (VI, 3 sqq). Посмотрим, что там.
Но сперва, в кн. V-VI, Цицерон воспроизводит идеальный образ государственного деятеля * в форме автопортрета. Изображая именно себя как идеального правителя, Цицерон предается открытому самовосхваленью — разумеется, по требованью жанровой традиции.
Дальше идет «Сон Сципиона». Это ночное видение, происшедшее после хорошего ужина, изображает появление* Сципиона Старшего. Он указывает Младшему на Карфаген, который необходимо уничтожить. Город войн и разрушения! «Да, его уничтожить необходимо»,— ответил бы не только данный визионер, но и всякий другой апокалиптик; ведь если Иоанн видит небесный Иерусалим, то он, не забудьте, видит и порочный Вавилон. Все наши авторы любят противопоставлять «праведное» и «неправедное житие»; доброму и дурному правителю-хозяину, доброй и злой жене соответствуют и два города, порочный и благочестивый. Чему в данном смысловом контексте соответствует Карфаген — нам позволено догадываться. Ведь, соучастники «откровения», мы уже и так присутствуем вместе
|
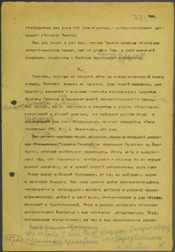 
|
|
|
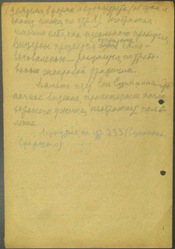 
|
|
с нашими Сципионами в царстве лучезарной справедливости — на небесах. Здесь каждый может легко разыскать любого праведника из своих друзей и родных, особенно тех, кто был хорошим гражданином и умер во имя государства: «ибо, — суфлирует Цицерон, — ничего нет на земле более приятного для верховного бога, который правит всей этой вселенной, чем собрания и сообщества людей, соединенных правом, которые называются государствами; их правители и охранители отправляются сюда, сюда возвращаются»1 (VI, 6). Итак, небо, оно же обитель праведных. Естественно, куда ни обрати Младший Сципион взоры, всюду он видит звезды и звезды. И тут-то он узнает, что эти светила созданы из огня и одушевлены. С неумолимой неуклонностью они совершают свой путь по небесам. И если мы любим повторять, что «ничто не вечно под луной», то Цицерон говорит — «поверх луны все вечно»; он заставляет Старшего Сципиона изъяснять положение небесных светил, их природу и их гармонию, — а эта гармония есть основное свойство универса (VI, 10 sqq.). За вереницей звезд идет и вереница исчислений; простое построение года по кругообороту солнца заменяется понятием мирового года, составляемого кикличностью веков. «Когда все звезды, — говорит Сципион Старший, — придут в то положение, из которого они однажды вышли, и вернут его после долгого перерыва таким, как оно было, — только тогда можно действительно называть год совершившим оборот; и я едва смею сказать, сколько в нем содержится человеческих
1 Здесь и далее перевод О. М. Фрейденберг.
|
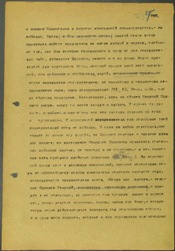 
|
|
веков... Когда солнце, занимая прежнее положение, вторично затмится и все светила и звезды возвратятся к своему началу, только тогда вы будете иметь полный год. Знай, что еще не произошло вращения и двадцатой части такого года» (VI, 15).
Итак, опять астральная кикличность, опять многозначительная теория круговращения времен. Как ее следствие, идет тождество двух миров, одинаково подверженных универсальной периодизации: это макро- и микрокосм, вселенная и человек. В царстве света и гармонии, на небесах, душа человеческая и душа звездная одинаково обитают среди правды, и человек — это божество: «знай, что ты бог, потому что бог тот, кто видит, кто чувствует, кто помнит, кто предвидит, кто так же правит, управляет и движет телом, начальником которого является, как верховный бог — вселенной» (VI, 17). Душа человека, освобожденная от земных тягот, отлетает на небо, — она извечна, и родина ее — небеса. Это небо — ее жилище и ее дом (VI, 19).
У* Гезиода в Трудах (122) умершие называются божествами (дэмонами); у орфиков считалось, что душа человека была богом и по смерти снова становилась богом. Золотые таблицы из Фурий и Петелии, вынутые из могил, показывают, что мертвые держали их в руках и — подразумевается — читали начертанные на них стихи. Таблицы содержали молитвенный гимн, с которым мист обращался к царю преисподней после «мук круговорота» (т. е. земного существования) и молил о входе в дом святых. Ответ тут же гласил: «Блаженный, ты больше не смертный, но бог!».
|
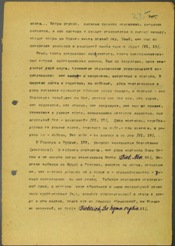 
|
|
Орфизм и пифагорейство, через среднюю Стою, Платон на одном конце, Панэций — на другом — оказали пользу Цицерону. Но, помимо этого, и сам Цицерон многого стоит. Его звездное небо — дом, его космос — светило-человек вовсе не изобретение из Тускулана или Академии. Перенос целой образной системы из сочинения в сочинение был бы совершенно немыслим, если б не находил привычной почвы в сознании Цицерона; никто из нас, каким начетчиком ни был бы в античной литературе, не писал бы подобных вещей. «Видение» божьего, звездного града принадлежит не им только, Платону и Цицерону. Никакая ссылка на их источники не освобождает от факта, что у Платона или Цицерона эти источники находят полную консолидацию, — что эти письменные и устные источники остаются их литературными источниками, а взгляд на вещи предшествует выбору источников и его создает как уже вторичное явление.
Да и какую имеет принципиальную ценность перечисление литературных предшествий и тщательное их восстановление, когда то же, что пишет Цицерон или Платон, можно найти в каком-нибудь апокалипсисе Петра1? И там бог показывает огромное место, залитое светом, воздух, пронизанный лучами солнца, цветущую неувядаемыми цветами землю, населенную ангелами в световом одеянии и праведниками; показывает и место кары, пылающее огнем, с болотом, полным горящей грязи, с похоронными ангелами в темной одежде.
Итак, «Сон Сципиона» содержит в себе элементы и апокалиптики, и видения Эра, и космогонии из Законов, а сам замыкает не О законах Цицерона, а его О государстве. Звездная утопия
1 Перевод этого сочинения II в. см. в кн.: Ранович А. Б. Первоисточники по истории раннего христианства. М., 1933.
|
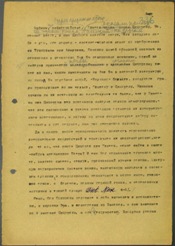 
|
|
уместна, как композиционная составная часть, в государственной утопии и Платона, и Цицерона. Если у Цицерона свернуто содержатся и Законы и Государство, то это говорит за генетическое единство звездной утопии и Законов у Платона. Но, впрочем, к чему эти обходы? Перед нами наша старая Эвномия. Это она всегда называлась Благозаконием, числилась в родстве с Дикой и Фемидой, и была цветоносной Горой. Да, сестра Дики и дочь Фемиды, по происхождению и положению — Время года! А Беззаконие? Беззаконие, по Гезиоду, дочь злой Эриды1. Вот откуда идут Законы наших утопических государств, и вот что это, генетически, за Законы!
У Тиртея была поэма-элегия, которая называлась Эвномией2. Под видом Благозакония здесь выступала идеализированная Спарта — город, основанный богами и управляемый «чтящими богов царями»; это царство праведности и закона (fr. 2—4 Diehl* ). Существовал, следовательно, жанр стихотворной утопии, утверждавший и восхвалявший Законность. Та же Эвномия, но уже с маленькой буквы, играет основную теоретическую роль в политическом трактате V века, в так называемом Анониме Ямблиха3. Но кто такой закон, мужское замещение Эвномии*? Пифагорейцы требуют для него величайшего культа, именуя его царем, отцом, вечным, живым. А орфический гимн называет его небесным и установителем звезд, праведной печатью моря и земли, носителем великого неба и его водителем, весьма древним,
1 См. Теогония, 230.
2 Выражение «поэма» условно: сохранилось несколько фрагментов элегий, цитируя которые древние говорили, что приводят стихи из Благозакония (Эвномии) (см. перевод двух фрагментов: Античная лирика. М. 1968, с. 128).
3 Аноним Ямблиха – условное название автора сочинения, известного по цитате, приведенной Ямблихом в его Протрептике (20).
|
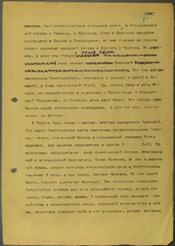 
|
 http://ec-dejavu.net/u/Utopia.htm.
http://ec-dejavu.net/u/Utopia.htm.