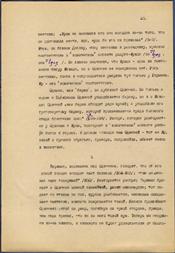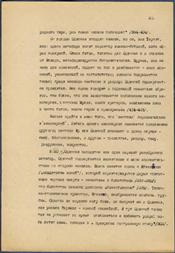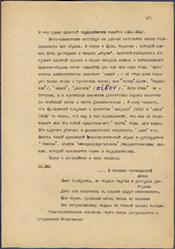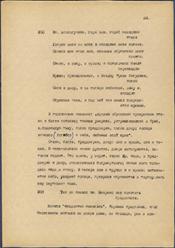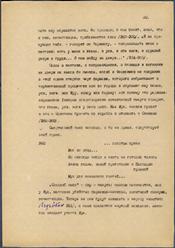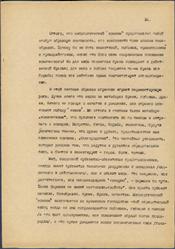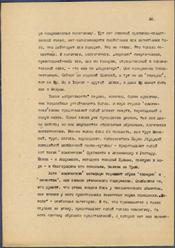2. Комическое до комедии
Опубл.: Фрейденберг О. М. Комическое до комедии : (к проблеме возникновения категории качества) // Миф и театр / сост., научно-текст. подг., предисл. и примеч. Н. В. Брагинской. – М.: ГИТИС, 1988. – С. 74–127.
[Предисловие Н. В. Брагинской]
Рукопись «Комическое до комедии» публикуется полностью, без изменений, с уточнением цитат и отсылок к цитатам; рукопись снабжена примечаниями составителя.
У работы «Комическое до комедии» есть две особенности, на первый взгляд никак не связанные между собой. Первая — то, что работа писалась в осажденном Ленинграде, вторая — то, что на собственные неопубликованные труды Фрейденберг ссылается так, словно читателю они могут быть известны. Нужно, наверное, представить себе человека, который много лет работал в идейной изоляции, не видел своих работ напечатанными (единственная опубликованная монография «Поэтика сюжета и жанра» таинственно исчезла с прилавков через пару дней после выхода в свет), представить себе ученого, который видит вокруг умирающий город, чтобы понять, что обращаться такой человек и ученый мог только к будущему. Перед лицом будущего и будущего читателя, тем более идеализируемого, чем меньше вероятия найти читателя труда о Гомере и Аристофане в осажденном Ленинграде, кажутся смешными, лишними ссылки и пояснения, и читателю в дали немногих, но недостижимых десятилетий приписывается и полная осведомленность я готовность все понять и обо всем догадаться.
|
вестник; «Иром же называли его все молодые из-за того, что он доставлял вести, идя, куда бы кто ни приказал» (6–7). Итак, он близок Долону, сыну вестника и разведчику, мужское соответствие в ‛комическом’ аспекте радуге-Ириде (он Ἶρος, она Ἶρις). Не лишено значения, что Ирида — одна из постоянных фигур Илиады, но в Одиссее её совершенно нет. Роль вестника, посла и сопроводителя умерших тут только у Гермеса. Ир — его ‛комическое’ соответствие.
Однако, как ‛баран’, он дубликат Одиссея. Не только в сцене Полифемом Одиссей уподобляется барану, но и в Илиаде: Одиссей «как баран обходит ряды мужей; я уподобляю его густошёрстому барану, который прохаживается среди большого стада блестящих овец» (3,196–198). Распря, которая разгорается у Одиссея с Иром, повторяет в ‛комическом’ аспекте распрю богов и героев. В данном эпизоде сам Одиссей — тот же Ир, нищий в грязных отрепьях, прожора, попрошайка, объект смеха и инвективы.
5
Эвримах, издеваясь над Одиссеем, говорит, что от его лысой головы исходит свет факелов (354–355); этим он «вызвал смех товарищей» (350). Разгорается распря; Эвримах бросает в Одиссея ножной скамейкой, ранит виночерпия; тот падает на пол, кружка разбивается, женихами овладевает смятение, комната покрывается тьмой. Женихи проклинают Одиссея: «чтоб он умер, погибнув на чужой стороне, прежде чем сюда пришёл, это из-за него такой шум. Теперь мы ссоримся из-за нищего, и никакого не будет удовольствия от благо
|
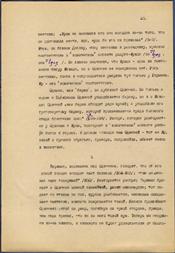 
|
|
родного пира, раз самое низкое побеждает» (394–404).
От головы Одиссея исходит сияние, но он, как Терсит, лыс: здесь метафора носит характер комико-бытовой, хотя образ солярный. Самая битва, типично дня Одиссея и в отличие от Илиады, метафоризируется бытовистически. Кружка, она же чаша для возлияний, падает на пол и разбивается — знак зловещий, указывающий на святотатство; комната покрывается тенью; среди женихов смятение и раздор; Одиссей подвергается проклятью. Вся сцена говорит о подземной семантике образов, тем более, что она заканчивается появленьем нового виночерпия, вестника Мулия, новых кратеров, возлиянием вина в честь богов, новым пиром и примиреньем (414–428).
Нельзя пройти и мимо того, что ‛вестник’ первоначально и ‛виночерпий’. Гибель одного виночерпия сменяется появлением другого; вестник Ир или Одиссей вызывают в одном случае — смех, благословенье, в другом — проклятье, раздор, тьму, разрушение, кощунство1.
В п. 20 Одиссеи находится ещё один вариант разобранных метафор. Одиссей подвергается инвективам и злым издевательствам со стороны женихов. Здесь имеется сцена с Ктезиппом («владетелем коней»), который характеризуется двумя эпитетными чертами смерти — нечестием и богатством (287–289); это богатство названо дословно «божественным» (289). Типично-хтоническое существо, Ктезипп, изображается злобным, грубым. Схватив из корзины ногу быка, он швыряет ею в Одиссея, как раньше Эвримах — ножной скамейкой. И тут Одиссей точно так же успевает во время отклониться и избежать удара, нога летит мимо, попадая в «прекрасно построенную стену» (302).
1 Семантика кэрпка, т. е. вестника и виночерпия в «Поэтике» поясняется так: «Первоначальным восхвалителем победы над смертью является... сам победитель... Победа над смертью — отвлеченное понятие; конкретные акты такой победы совершались во время разрывания зверя и омофагии (сыроядения). Отсюда — первый победный крик раздается пз уст того, кто убивает и разрывает жертву. Сперва это общественный вожак, тотем-божество; когда же жрец закалывает зверя в племенном обществе, он сам и возвещает о свершившемся священном акте. Мы так н видим в целом ряде мистериальных драм (т. е. представлений во время посвящения в религиозные таинства — мистерии в Древней Греции — Н. Б.): кульминационный момент таинства в том и состоит, что жрец объявляет посвященным о гибели божества, только что нарожденного вновь, о смерти, ставшей жизнью, о взросшем из тьмы новом молодом свете, о появившейся из земли свежей растительности. Первоначально такое возвещение отрывочно и кратко; это возглас победы над смертью, крик, дублирующий действо оживания; это, еще дальше, краткая формула, впоследствии переходящая в молитвенное славословие-рассказ-монолог. Мы знаем, что особые жреческие роды назывались кэриками (глашатаями, вестниками), что кэрики были и в мистериях, что они считались священными, божественными друзьями Зевса, наконец, демиургами (творцами мира) сами: кэриком был Гермес, подземное божество кэр. Кэрики — служители при жертвоприношении, выполняющие роль, которая еще не отделяет жреца от повара: они приносят в жертву животное, рассекают его на части и возливают виио, т. е. делают все то, что когда-то составляло разрывание зверя и выцеживание его крови. В связи с этим кэрики обращаются в виночерпиев при трапезах, в прислужников стола, подающих вино, воду для рук, мясо и хлеб и присматривающих за столом» (Поэтика сюжета и жанра. С. 185—186).
|
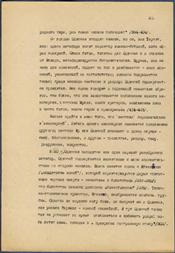 
|
|
В это время Одиссей сардонически смеётся (301–302).
Быто-комические метафоры не должны заслонять смысл передаваемого ими образа. В сцене с Иром, бараном, который должен быть растерзан и съеден «сырым», Одиссей-победитель получает налитый кровью и жиром желудок козла; в побеждаемого Одиссея-барана летит скамейка для ног или нога быка. ‛Нога’ всегда мифологически означает ‛землю’, — об этом даже говорят такие слова в греческом языке, как ‛почва’ (досл. ‛подножие’), ‛земля’, ‛равнина’ (πέδον). ‛Нога быка’ не в бытовом, а в культовом значении достаточно хорошо известна по эгейской песне в честь Диониса-героя1. Я хочу сказать, что Ир-Одиссей получает в качестве ‛награды’ (297) и ‛доли’ (293) то самое, что ему и так принадлежит, что сам он переживает или что собой представляет ‛часть’ быка, или козла, или другого убитого и разделённого животного, ‛долю’ его. Именно такой архаичный эсхатологический образ и дублируется ‛смехом’, особым ‛мясораздирательным’ (саркастическим) смехом, который называется также и сардоническим.
Таков в дальнейшем и смех женихов.
20,345 В женихах несказанный Афина
Смех побудила, их сердце смутив и рассудок расстроив.
Дико они хохотали; и, лицами вдруг изменившись,
Ели сырое, кровавое мясо; глаза их слезами
Все затуманились; сердце их тяжкой заныло тоскою.
Эсхатологической значение этого смеха раскрывается в откровении Феоклимена:
1 Имеется в виду культовый гимн к Дионису, сохраненный у Плутарха, который недоумевал как раз по поводу «бычьей ноги» в этой песне: «Рано приди, Дионис, в священный храм приморский, бычьей ногой в сопровожденьи Харит принося [себя] в жертву». (Qu. Gr. 299 В).
|
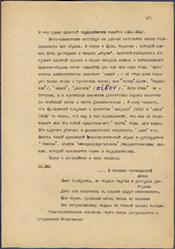 
|
|
350 Вы, злополучные, горе вам, горе! невидимы стали
Головы ваши во мгле и невидимы ваши колени.
Слышен мне стон ваш, слезами обрызганы ваши ланиты.
Стены, я вижу, в крови; с потолочных бежит перекладин
Кровь; приведеньями, в бездну Эрева бегущими, полны
Сени и двор, и на солнце небесное, вижу я всходит
Страшная тень, и под ней вся земля покрывается мраком.
В подлиннике сказано: «кровью обрызганы прекрасные стены и балки потолка; тенями умерших, устремляющихся в Эреб, в подземную тьму, полно преддверие, полон двор; солнце исчезло (погибло) с неба, набежал злой мрак».
Стены, балки, преддверие, двор: они в крови, они в тенях. В эсхатологиях стены рушатся, двери затворяются, потолки падают. Это здесь, у ворот, сидел Ир, сюда, в преддверие и двор, выволакивали полумёртвого; бычья нога попадала сюда, в стену. И теперь они в трупах и в крови; затмевается небо, умирает солнце, призраки спускаются в тартар, весь мир окутывает тьма.
358 Так он сказал им. Безумно они хохотать продолжали.
Женихи «сладостно смеялись». Эвримах предложил, чтоб Феоклимена выгнали за двери дома, на площадь, раз в ком
|
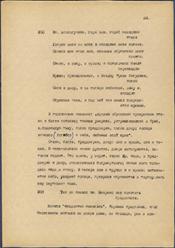 
|
|
нате ему мерещится ночь. Но провидец и сам бежит, зная, что к ним, нечестивцам, приближается лихо (367–370). «Я не принуждаю тебя. — говорит он Эвримаху, — сопровождать меня в шествии: есть у меня и глаза, и уши, и обе ноги, и здравый разум в груди… Я сам выйду за двери…» (354–365).
Слова о шествии, о сопровожденьи, о площади и изгнании за двери не имели бы смысла, если б и Феоклимен не сохранял в этой сцене стёртых черт фармака, которого выбрасывают в торжественной процессии вон из города и вырывают ему глаза, уши, ноги, как Иру, козлу или барану: вот почему это рационализированное Гомером олицетворение космической смерти говорит, что глаза, уши, ноги у него целы. Как Ира, женихи грозят и его с Одиссеем бросить на корабль и отослать к Сикелам (382–383).
Смертельный смех женихов, то же время, сопутствует всей сцене.
390 …хохотом шумен
Был их обед...
Но никогда нигде и никто не готовил такого
Ужина людям, какой приготовил с Палладою грозный
Муж для незванных гостей…
«Сладкий смех» — пир-смерть: смехом начинается, как у Ира, массовое убийство фармаков-женихов, носителей скверны, нечестивцев. Теперь не они будут закалать в жертву животных (ἱέρευσαν 391), а сами сделаются жертвой заклания. Женихов ожидает участь Ира.
|
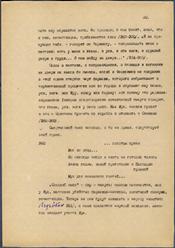 
|
|
6
Итак, эпический ‛комизм’ очень своеобразен. В нем, собственно, нет комического. Смех выполняет какую-то особую, но строго определённую функцию. Она заключается не в том, чтоб забавлять, но и не в том, чтоб осмеивать или ‛выводить на чистую воду’. Она бесконечно далека от того, что мы вкладываем в понятие смешного. Она, прежде всего, глубоко серьёзна.
Мифологические компоненты ‛комического’ складываются из метафор, передающих образ ‛жизни’ на перевале от смерти к новому рождению. В до-земледельческой образности они направлены на передачу всего того, что для тотемиста представляется антитотемом, то есть разрушением, низом, смертью, тенью. В земледельческий период эти метафоры выглядят совершенно иначе, хотя структурно они совпадают со своими предшествиями. Они описательно выражают тот же образ господства разрушительной силы, в истреблении которой происходит зачатие новой жизни. Чем позже, тем больше эти мотивы зачатия и рождения получают свой прямой смысл, а образ разрушения и тени принимает форму мнимого подобия.
Вот поэтому-то архаический смех появляется там, где мы бы его не ждали. Бьют урода — а герои смеются. Боги ссорятся, дерутся, пакости делают — а на Олимпе смех. И, конечно, в п. 1 Илиады не звучал бы «гомерический» хохот, если б ему не предшествовала (верней, не сопутствовала) брань супругов, да если б Гефест не был хромым, да если б тут, как в Одиссее, действие не происходило во время пира, за кубком вина (этим более поздним и уже рационализированным образом ‛крови’).
|
 
|
|
Оттого, что мифологический ‛комизм’ представляет собой особую образную значимость, его компоненты тоже вполне своеобразны. Почему бы им быть инвективой, побоями, срамословием и срамодействием, если б это было наше современное понимание комического? Но для мифа словесная брань совпадает с действенной бранью; для него в побоях творится та же брань или борьба; показ или действие срама соответствует оплодотворению.
В этой системе образов агрессия играет первенствующую роль. Лучше всего это видно на метафорах брани, побоища, драки. Ничего не говоря о зачатии и рождении, они образно описывают победу ‛жизни’. Мы оттого и считаем такие метафоры «комическими», что привыкли соотносить их со смехом и встречать в комедии. Напротив, битва, борьба, инвектива, будучи решительно тем же, что драка и ругань, представляются нам лишёнными комизма, «благородными». Это чистейшая условность, которая рождена тем, что дерутся и ругаются отрицательные силы, а бьются и инвектируют — герои, боги, тотемы.
Миф, созданный субъектно-объектными представлениями, всегда имеет субъектов такого же разрушения и нападения (словесного и действенного), как и объект мифа. Это звериные, или растительные, или человековидные ‛скверны’, — фармаки по сути. Такие фармаки не имеют настоящих «свойств». Они просто субъект насилия, безобразия, срама, брани, нечестия. Мифологический ‛комизм’ заключается во временном господстве этой отрицательной силы; когда же она сопровождается побоищем, гибелью и смехом (а это идёт одновременно, как показывают обряды богов плодородия), в это время рождается новая положительная сила (гово
|
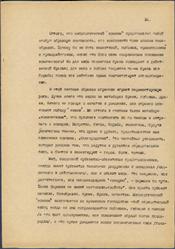 
|
|
ря современными понятиями). Тут нет никакой причинно-следственной связи, нет наполненности свойствами или качествами того, что действует или говорит. Это не этика. Это только семантика. И носители, воплотители, «персоны» смерти-жизни, преисподней-неба или, как мы говорим, отрицательной и положительной силы, — это ещё не «характеры». Они совершенно бескачественны. Сейчас он хороший Одиссей, а тут же он ‛скверна’, тот же Ир. Но и Терсит — другой Ахилл, и даже Ир может быть ещё и Неиром.
Такая «обратимость» героев, конечно, более архаична, чем позднейшая устойчивость богов. В мире героев ‛комическая’ линия представляет собой аспект смерти, переходящей в новую жизнь. Такая линия уже преодолена эпосом, так как давно забита; но она вырывается отдельными обрывками, логически заглаженными. Всё же можно было бы показать, как трус Менелай, трус, щёголь, хороводник, соблазнитель Парис (будущий комедийный влюблённый юноша-кутила) — представляют собой вот такие ‛комические’ фрагменты к Агамемнону и Гектору, Елена — к Андромахе, негодные сыновья Приама, плясуны и воры — к благородным его сыновьям, павшим за Трою.
Хотя ‛комические’ метафоры передают образ ‛скверны’ и ‛нечестия’, они лишены этического содержания. Ошибаются те, кто думают, что этика искони была у человеческого общества, как искони у него существовала известная норма поведения. «Искони» — ошибочная категория. И то, что принимается в таких случаях за этику, представляет собой только семантику, то есть систему образных представлений, в которых нет ещё качест
|
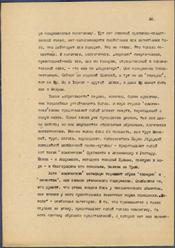 
|