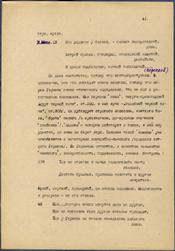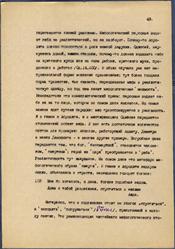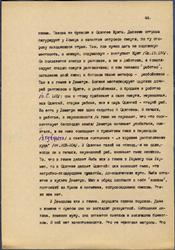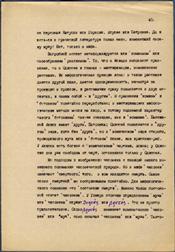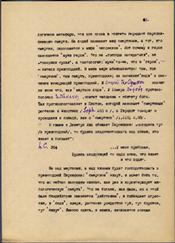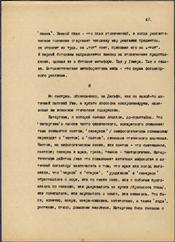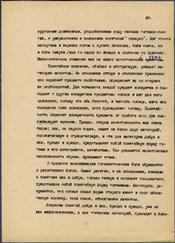2. Комическое до комедии
Опубл.: Фрейденберг О. М. Комическое до комедии : (к проблеме возникновения категории качества) // Миф и театр / сост., научно-текст. подг., предисл. и примеч. Н. В. Брагинской. – М.: ГИТИС, 1988. – С. 74–127.
[Предисловие Н. В. Брагинской]
Рукопись «Комическое до комедии» публикуется полностью, без изменений, с уточнением цитат и отсылок к цитатам; рукопись снабжена примечаниями составителя.
У работы «Комическое до комедии» есть две особенности, на первый взгляд никак не связанные между собой. Первая — то, что работа писалась в осажденном Ленинграде, вторая — то, что на собственные неопубликованные труды Фрейденберг ссылается так, словно читателю они могут быть известны. Нужно, наверное, представить себе человека, который много лет работал в идейной изоляции, не видел своих работ напечатанными (единственная опубликованная монография «Поэтика сюжета и жанра» таинственно исчезла с прилавков через пару дней после выхода в свет), представить себе ученого, который видит вокруг умирающий город, чтобы понять, что обращаться такой человек и ученый мог только к будущему. Перед лицом будущего и будущего читателя, тем более идеализируемого, чем меньше вероятия найти читателя труда о Гомере и Аристофане в осажденном Ленинграде, кажутся смешными, лишними ссылки и пояснения, и читателю в дали немногих, но недостижимых десятилетий приписывается и полная осведомленность я готовность все понять и обо всем догадаться.
|
лгун, жулик.
H. Merc.13 Он родился у богини, — ловкач изворотливый, дока,
Хитрый пролаз, быкокрад, сновидений вожатый, разбойник,
В двери подглядчик, ночной соглядатай… (Вересаев)
Он даже святотатец, потому что клятвопреступник. И, однако же, всё это выглядит очень невинно, потому что образ Гермеса лишён этического содержания. Это не бог в религиозном понимании. Как персона ‛низа’, смерти-преисподней («друг чёрной ночи», ст.290, и ещё ярче — «подобный чёрной ночи», ст.358), он дублирует строгого Аполлона, светлого бога, ‛брата’ своего (в архаическом, до-кровном значении с ‛двойника’), ‛вдвоём’ с которым действует в гимне, и всё ему удаётся, во всём он берёт верх. Позднее такой ‛комизм’ уже осмысляется в категориях комедийно-смешного (проделки хитрого Гермеса). За Гермесом остаются, в качестве элементов ‛смешного’, изворотливость, подвижность, всякая быстрота:
278 Так он ответил и начал подмигивать часто глазами,
Двигать бровями, протяжно свистеть и кругом озираться.
Яркий, вёрткий, проворный, он всегда подвижен. Медленность и раздумье — не его стихии.
43 Как… быстрые мысли несутся одна за другою,
Как за миганием глаз другое миганье приходит,
Так у Гермеса за словом немедленно делалось дело.
|
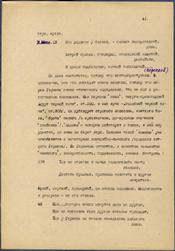 
|
|
Даже в колыбели он лишён пассивности, даже запелёнутый он движется, вертится, шныряет в люльку и из люльки.
20 После того, как из недр материнских он вышел бессмертных,
В люльке священной своей лишь недолго Гермес оставался.
Вылез и в путь припустился…
Своими словами и проделками Гермес вызывает смех Аполлона (ст.281) и смех Зевса (ст.389). В обоих случаях он лукаво подмигивает, гримасничает, комически мимирует.
389 Расхохотался Кронид, на мальчишку лукавого глядя.
Гермес паясничает. В нем функция будущего шута.
Мифологический ‛комизм’ и в гимне к Афродите. Богиня любви говорит Анхизу:
130 Я же к тебе вот пришла: принуждает меня неизбежность.
…Девой невинной, любви не познавшей, меня отведи ты
И покажи как отцу твоему, так и матери мудрой,
Также и близким, с тобой находящимся в родственных связях,
Буду ли я подходящей невесткой для них иль не буду?
Вот в этой реалистической травестии мифа и лежит природа будущей пародии. Как в сравнениях, и здесь линия мифа
|
 
|
|
пересекается линией реализма. Мифологический персонаж выдаёт себя за реалистический, но не наоборот. Почему-то Афродита должна появляться в роли земной девушки. Одиссей, вернувшись домой, нищим старцем, почему-то должен выдавать себя за критского купца или за сына рабыни, критского мужа, проданного в рабство (Од.14,200). В обоих случаях уже нет непроизвольной формы мышления сравнениями; тут более поздняя форма травестии, так сказать, переодеванья мифа в реалистическую одежду, но под ним лежит мифологическая ‛мнимость’. Впоследствии это новеллистический приём: персонаж выдаёт себя не за то лицо, которым на самом деле является, замена идёт путями пародии: миф транспонируется в реальность. И в гимне к Афродите, и в мистификациях Одиссея передаётся хтонический аспект мифа. У нас есть достаточное количество фактов для проверки: Аполлон, рабствующий Адмету, Деметра в нянях Демофонта — и многие другие примеры. Загробная фаза передаётся тем, что бог, ‛бессмертный’, становится человеком, ‛смертным’; герой из ‛царя’ преображается в ‛раба’. Реалистичность тут кажущаяся. На самом деле это метафоры мифологического образа ‛смерти’. В гимне к Афродите недаром Анхиз, объясняясь в страсти, неожиданно говорит богине:
153 Мне бы хотелось, о дева, богине подобная видом,
Ложе с тобой разделивши, спуститься в жилище Аида.
Интересно, что в подлиннике стоит не глагол «спуститься», а ‛заходить’, ‛погружаться’ (δῦναι), прилагаемый к заходу светил. Это реминисценция чистейшего мифологического хто
|
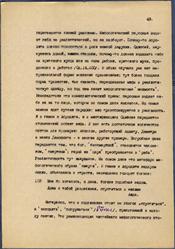 
|
|
низма. Такова же функция в Одиссее Крита. Далёкие острова фигурируют у Гомера в качестве островов смерти, по ту сторону находящихся стран. Там, где нужно дать не подлинную местность, а мнимую, выдуманную — выступает Крит (Од.19,185). Он появляется всегда в рассказе, а не в действии, и локализирует стадию смерти рассказчика; с ним связано ‛рабство’, в бытовом плане метафор — разбойников. Так и в гимне к Деметре. Богиня мистифицирует царских дочерей рассказом о Крите, о разбойниках, о продаже в рабство (h. C. 120): она к этому прибегает в фазе смерти, неузнанная, как Одиссей, старая рабыня, как и царь Одиссей — старый раб. Но есть у Деметры ещё одно сходство с Одиссеем. В печали, в рабстве, в неузнанности (а гимн не скрывает, что это соответствует бесплодию земли) Деметра начинает улыбаться, смеяться, и её смех совпадает с принятием пищи и переходом (ἐτρέψατο) в светлое состояние — ‛в хорошее расположение духа’ (ст.203–204). У Одиссея такой же эпизод, — и не один, — когда он в печали, неузнанный раб, вызывает смех женихов. То, что в гимне делает Ямба или в гимне к Гермесу сам Гермес, то в Одиссее делает Одиссей: они вызывают смех, эти загробно-плодородные существа, до-комические шуты. Ямба остаётся в культе Деметры. Миф и обряд включают в себя ‛комизм’, состоящий из брани и насмешек, сопровождаемых смехом. Этики ещё нет.
У Демодока или в гимне, Афродита лишена пороков. Даже в измене с Аресом она не выглядит развратной. Соблазняя Анхиза, изменяя мужу, она остаётся светлым и величавым божеством. В ней нет качественности. Это не эфесская матрона1. Это
1 Имеется в виду новелла об эфесской матроне у Петрония («Сатирикон», 111–112), использованная в «Декамероне» Боккаччио.
|
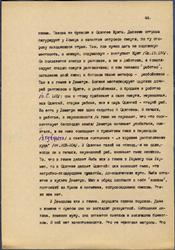 
|
|
не персонаж Катулла или Горация, Апулея или Петрония. Да и есть ли в греческой литературе показ жены, изменяющей своему мужу? Нет, только в мифе.
Загробный аспект метафоризируется или ‛комизмом’ или своеобразным ‛реализмом’. То, что в Илиаде выполняют сравнения, то в Одиссее и гимнах — мистификации, вымышленные рассказы, Их мифологическая функция ясна: в таком рассказе даётся другой план, даётся одновременность, несмотря на проекцию в прошлое, и рассказчик сразу появляется в двух аспектах, и самим собой — и ‛другим’. В сравнении с ‛комизм’ и ‛бытовизм’ понятийно переработаны; в мистификациях мифологические методы мысли на лицо, а потому подземный характер такого ‛бытовизма’ так же очевиден, как и ‛комизма’. Пассивный Ахилл имеет ‛друга’, Патрокла; Одиссей появляется в ‛другом’ виде, хотя без ‛друга’, но в ‛комическом’ виде старого, прожорливого шута или в ‛бытовом’ плане, как критянин-раб. У Ахилла есть богиня с ‛комическими’ чертами, Афина; у Одиссея она уже свободна от черт, оставшихся только у Одиссея.
Мы подходим к изображению человека с позиций нашего нынешнего понимания человеческой природы. Но в мифе ‛человек’ означает ‛смертного’, того, в ком находится смерть. Самое слово «смертный» мы воспринимаем понятийно. Для мифологического сознания это ‛состояние смерти’. Именно таков постоянный эпитет ‛человека’. У Гомера стоячим определением ‛мужа’ или ‛человека’ служит θνητός или βροτός. Это не просто прилагательные. Слово βροτός заменяет номинативное ‛человек’ или ‛муж’, само означая ‛человека’ или ‛мужа’. Тавто
|
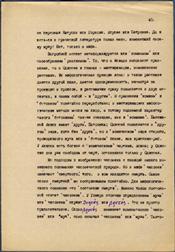 
|
|
логичные метафоры, эти все слова и эпитеты передают персонификацию смерти. Не людей называет миф смертными, а тот, кто смертен, оказывается в мифе ‛человеком’. Вот почему и герои называются ‛мужи герои’. Это не «господа заседатели», не «товарищи судьи», а тавтология: ‛мужи’ то же, что и ‛герои’, — и жители преисподней. В мифе миры абмивалентны: там, где ‛смертные’, там смерть, преисподняя; её населяют ‛люди’ в значении инкарнаций преисподней. И θνητοὶ ἅνθρωποι значит не иное что, как ‛мертвые люди’. У Гомера θνητός противоположно ἀθάνατος, эпитет человека — эпитету бога.
Так противопоставляет и Платон, который называет ‛смертными’ растения и животных (Soph. 255c), а Геродот говорит о крокодиле и лошади, как о ‛смертных’ (1, 216; 2,68)
В гимне к Деметре Аид обещает Персефоне: «находясь тут (в преисподней) ты будешь владычествовать над всеми, кто живёт и ползает»:
h. C. 364 …У меня пребывая,
Будешь владычицей ты надо всем, что живёт и что ходит.
Не над мёртвыми, а над живыми будет господствовать в преисподней Персефона: ‛смертные’ живут, и может быть то, что мы сейчас называем жизнью, как раз и характеризует мифологическую ‛смерть’. Это не больше, как фаза, но в этой фазе бездействие сменяется ‛действием’, и побеждает агрессия, и ‛люди’, звери, растения рождаются тут, тут борются, тут ‛живут’. Именно здесь, в земле, зачинается всякая
|
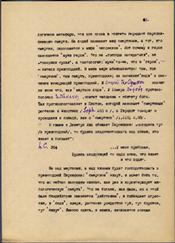 
|
|
‛жизнь’. Земной план — это план хтонический, и когда реалистическое сознание открывает человеку мир реальных предметов, он относит их туда, на «тот» свет, принимая его за «этот». И первый бытовизм направляется именно на хтонические представления, одевая их в бытовые метафоры. Так у Гомера. Так в сказке. Бытовистическая метафористика мифа — это форма фольклорного реализма.
8
Мы смотрим, обыкновенно, на Дельфы, как на какой-то античный папский Рим, а культы Аполлона анахронизируем, навязывая им исконное этическое содержание.
Катартика, с которой связан Аполлон, до-понятийна. Это ‛катартика’ в смысле чисто физического конкретного очищения: тьма очищается светом, ‛скверное’ (в мифологическом понимании) переходит в ‛чистое’, в ‛святое’, лишённое этического значения. Чистое, на мифологическом языке, или святое — это светящееся, светлое; скверна и мрак, грязь, тёмное — тавтологичны. Катартические действа (как это показывает античная мифология и античный фольклор) заключались в том, что мрак или холод изгонялся, что ‛чёрное’ и ‛старое’, ‛уродливое’ и ‛скверное’ сбрасывалось в море, или со скалы вниз, или с побоями прогонялось по селению, или разрывалось на куски (бросалось псам), или сожигалось, или зарывалось в землю, или вешалось. Это были, конечно, звери, звери-хищники, антитотемы, а также ‛люди’, растения, птицы, домашние животные. Катартика была связана с
|
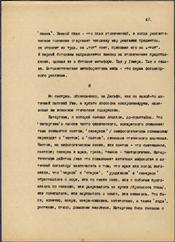 
|
|
круговыми движениями, уподобленными ходу сияющих тотемов-светил, с умерщвлением и закланием носителей ‛скверны’. Вот эта-то катартика и перешла потом в культы Аполлона, бога света, но и бога смерти (как то видно по Илиаде и особенно по Одиссее). Мифологическое очищение ещё не имело качественной сути.
Понятийное мышление, обобщая и абстрагируя, рождает категорию качества. На основании отбора и отвлечения признаков оно наделяет предметы свойствами, определяет их со стороны их особенностей. Для тотемиста каждый предмет конкретен и совпадает с другим конкретным предметом; солнце и щит для него одинаковы, потому что оба блестят, и чистота солнца, щита или поведения тоже одинаковы, если принадлежат тотему. Понятийность отделяет конкретность предмета от свойств его; она квалифицирует явление. Правда, сперва качественность ещё очень бедна; она, на первых порах, знает не более двух категорий, положительную и отрицательную, и эти две категории добра и зла, правды и кривды, представляют собой понятийную форму тотема и его антагониста, антитотема. Так рождается качественная наполненность образа, фундамент этики.
В процессе квалификации, тотемистические боги обращаются в религиозных богов. Самая религия, с её основанием в понятиях зла и добра, только теперь и начинает создаваться, представляя собой понятийную форму тотемизма. Бесспорно, разумеется, что всякая новая форма старого имеет свою объективную новизну, свои новые, объективные качества.
Рождение понятий добра и зла, правды и кривды, уже не как мифологических, а как этических категорий, приводит к боль
|
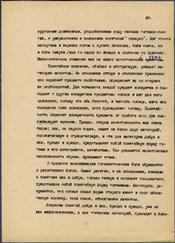 
|