2. Комическое до комедии
[Предисловие Н. В. Брагинской]
Рукопись «Комическое до комедии» публикуется полностью, без изменений, с уточнением цитат и отсылок к цитатам; рукопись снабжена примечаниями составителя.
У работы «Комическое до комедии» есть две особенности, на первый взгляд никак не связанные между собой. Первая — то, что работа писалась в осажденном Ленинграде, вторая — то, что на собственные неопубликованные труды Фрейденберг ссылается так, словно читателю они могут быть известны. Нужно, наверное, представить себе человека, который много лет работал в идейной изоляции, не видел своих работ напечатанными (единственная опубликованная монография «Поэтика сюжета и жанра» таинственно исчезла с прилавков через пару дней после выхода в свет), представить себе ученого, который видит вокруг умирающий город, чтобы понять, что обращаться такой человек и ученый мог только к будущему. Перед лицом будущего и будущего читателя, тем более идеализируемого, чем меньше вероятия найти читателя труда о Гомере и Аристофане в осажденном Ленинграде, кажутся смешными, лишними ссылки и пояснения, и читателю в дали немногих, но недостижимых десятилетий приписывается и полная осведомленность я готовность все понять и обо всем догадаться.
Ты ими нынче владеешь,
Зевсовой власти наследник, Дочь его в жены берёшь ты, Василию. Культовый колорит песен хочет передать божественность Пифетера, «величайшего из богов» (1765): 1709 …Он идёт сияющий! Звезда, на небе золотом горящая, И солнце, пламеневшее, ясное, Не светят так! Идёт он и жену ведёт, Сверкающую несказанной прелестью. Крылатую он держит Зевса молнию. В глубинах мира дуновенье сладкое Разносится. О зрелише чудесное! Дым благовонный в воздухе колышется Итак, вся вселенная в ликовании. Новый царь, новый жених — это мировой владыка. В чем же здесь комизм? В мнимости всего происходящего. В торжестве гибриста, свергнувшего богов, сокрушившего миропорядок. В победе ложного над настоящим, неправды над правдой. Этот комизм ещё до-этичен, а потому и до-комедиен. Поверх него лёг слой современной Аристофану политики и комедийной комичности, — слой, однако, самый верхний. Вся комедия до этого слоя — пародия на ‛политическую’ утопию-космогонию, на гиерос гамос неба и земли; её можно охарактеризовать, как ‛комическую’, т.е. до-этическую, эсхатологию, в которой особенно выдвинута «гибристомахия», с победой гибриста. |
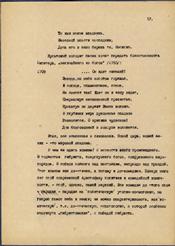 
|
Так же показательны Всадники. Вся их перипетия заключается в поединке двух лже-владык, кожевника и колбасника. Побеждает колбасник, как негодный из народнейших (180; 185; 328; 684). Его, словно в Птицах Пифетера, восторженно встречают, находя в нем долгожданного мессию, — сотера. Эпифания спасителя сопровождается, как в Птицах, ликованием: «О, блаженный колбасник, сюда, сюда, о возлюбленный спаситель, взойди в город и явись нам!» (147). Богоявление происходит не на горе, а на колбасном лотке, куда всходит мессия и обозревает вселенную, то есть все свои владения (169ss.). Он сам говорит впоследствии Демосу, что тот мог бы считать его богом (1338). Судя по игре слов, в его лице выводится шутовской Посейдон (839), божество всадников (конников). В отличие от Птиц, Всадники представлены, как развёрнутое пророчество. В них и через них беспрерывно проходит мотив оракула. Один мир сменяется другим, один властитель падает, нарождается другой:
128 …Все отчётливо указано: В начале всех начал пенькой торгующий Придёт и встанет у кормила города. — Один уж есть торговец. Кто ж потом придёт? — Другой, и будет торговать он овцами. — Ещё торговец! С этим что же станется? — Пока другого не найдут, мерзейшего, Он править будет, а потом провалится. Кожевник пафлагонец вслед за ним придёт, Буян, горлан, как мельница грохочущий. |
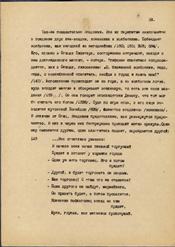 
|
— Падёт овчатник, значит, от кожевника?
Так суждено? — …Придёт колбасник и сразит кожевника. Эта комическая теогония совершенно апокалиптична. Её именно такой характер подчёркивается конечной сотерией колбасника и воскресением, преображением Народа. 1324 Я Народ вам сварил в кипятке и его превратил из урода в красавца. …Он в фиалковенчанных Афинах живёт, в первозданных священных Афинах. Идёт гимн древним Афинам. Народ встречают ликованьем, как нового бога: 1332 Вот и он! С золотою цикадой в кудрях, в облачении прадедов древнем. …О, хвала! О, привет тебе, эллинов царь! А для нас — ликованье и радость. Пророчество сбывается: за одним мессией следует другой, чьё новое рождение вершится в варке. Вот здесь-то, в этом древнейшем космогоническом образе, и лежит разгадка того, что Всадники переполнены метафорами еды, что агон между двумя лже-спасителями носит характер состязания в выпечке хлеба из ячменя или пшеницы (1100ss.), что Народ передаёт своё царство тому, кто даёт ему печёный хлеб и жаркое (1106). Все эти блюда, каши, жаркие, варева представляют собой бытовистическую форму тех самых образов, которые воплощаются в сваренном Народе, — в мессии обновления. |
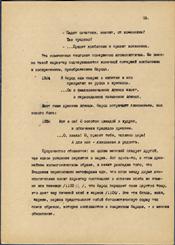 
|
Итак, пьеса пестрит ссылками на оракулы и на расшифровку предсказаний (109; 999ss. и др.). Все, что происходит, развёртывает не только пророчество о приходе спасителя: тут есть предсказание, что народ будет царствовать над всей землёй и морем, и будет судить; есть видение о помазании Народа елеем и амвросией (1086–1095). Видение оправдывается: Народ — помазанник, умащённый мирром (1332). Всё это типичные компоненты мессианских жанров, напоминающие библейские видения, откровения и пророчества. Народ, Демос, генетически включён в этот жанр не в реальном политическом значении, а тоже как один из компонентов визионарной образной системы, как носитель чаяний и воплотитель мессианства, его инкарнация. Любопытнейшая греческая параллель к восточным апокалиптикам, пародия Аристофана показывает комплекс визионарных обрезов, лишённых религиозно-этических идей о воздаянии, о грехе и о святости. Конники, составляющие хор, олицетворяют, по-видимому, хор коней; возможно, что это не больше, как очеловеченный, рационализированный образ из Посейдонова круга. «Сотрясатель земли» издревле олицетворял ‛землетрясение’, этот важный эсхатологический образ.
Всадники интересны ещё в одном отношении. Их парабаза откровенно говорит о битве, о врагах, о войне, о победе. Она призывает Палладу и Нику (581ss.). Битва между двумя «псевдами» переходит в битву хора-автора с невидимыми врагами, которые подвергаются инвективе и как бы присутствуют в театре. Как раньше хор конников сливался с одним из «псевдов», так в парабазе он сливается с автором. Судьёй, который определяет торжество одной стороны и поражение другой, являются зрители. Это суд до-этический, |
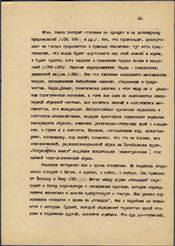 
|
и судьба, им определяемая, до-эсхатологична. Структура парабазы говорит о том, что сам автор, множественно дублируемый хором, находится в роли псевда. Вот почему он, этот мнимый тотем в прошлом, сам себе приписывает лже-подвиги и осыпает бранью антагонистов. Самохвала тотема, ‛слава’, ему принадлежащая, обращается в хвастовство. Впрочем, разница двух образов лишь метафорическая, ещё лишённая качеств. Хвастовство ‛комично’, и только.
В одном ряду с Птицами и Всадниками можно поставить Облака. Подобно птицам, облака — новые боги. Сократ, главный ‛псевд’, упраздняет власть Зевса. 367 Что за Зевс? Перестань говорить пустяки! Зевса нет! 423 И не будешь иных ты богов почитать, кроме тех, кого сами мы славим: Безграничного воздуха ширь, облака и язык — вот священная тройца! Подрыв богов, присвоение лже-богам функции богов настоящих, восстание против богов — один из основных мотивов комедии. Стрепсиад говорит о старых богах: 426 Им молиться не буду, вина не пролью, фимиама ни крошки не кину. Зевс был когда-то. Но его сменил Вихрь, новый бог, мнимый. 381 … в отставке уж Зевс и на месте его нынче Вихрь управляет вселенной. 827 Нет никакого Зевса, мой сынок. Царит Какой-то Вихрь. А Зевса он давно прогнал. |
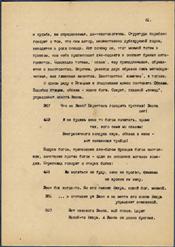 
|
В этой пародийной космогонии Дин, вихрь, верней, — Диев, свергает Дия, Зевса, как бы отца своего1. То, что в Птицах, — воздушное государство, то в Облаках «фронтистерий», где Сократ между землёй и небом, в воздухе, возводит вымышленное существованье в обществе облаков. Конец пьесы это подтверждает. Мнимое царство гибнет в огне: дом, подожжённый Стрепсиадом, пародирует мировой пожар, в котором рушится старый космос. Этот ‛дом’, фронтистерий, с лже-мудрецом Сократом, даёт комическую параллель к лже-пророкам, лже-богам, к мнимым царствам с их нечестием:
1506 Зачем восстали на богов кощунственно? Коли, руби, преследуй! Много есть причин, А главное, они богов бесчестили! Однако, в агоне Справедливой и Несправедливой речи блестяще побеждает Несправедливая, а сын Стрепсиада воплощает этот «гибризм» в делах. Мир, Ахарняне, Лизистрат — космические утопии, в которых космогония носит ярко выраженный земледельческий характер. Мир тут — мир вселенной, понимаемый в виде обильного урожая земли и чадородия женщин; этот мир — одна из фаз в круговороте космосов, фаза плодородия. Но дело-то всё в том, что это именно комическая утопия. Спасители, божества плодородия, мироносцы тут мнимые. Они достигают полного торжества. Комедия Женщины в народном собрании — пародийная политическая утопия. Женщины, свергающие власть мужчин, типичные псевды; победа на их стороне. 1 В тексте Аристофана, видимо, обыгрывается близость звучания слов «вихрь» — δῖνος и διὀς, что значит «зевсов» (ср. δὶος — «божественный»).
|
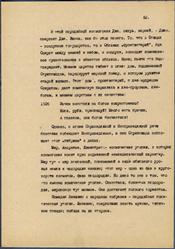 
|
В Лягушках — комическая до-эсхатология: не только показывается загробный суд, с весами, взвешивающими судьбу душ, с выходом на свет одной и с пребыванием другой души в преисподней, — не только, говорю я, загробный суд, но и смерть бога в виде сошествия его в ад. Временно функции бога у его раба, бог же становится сам рабом. Это столько же эсхатология, сколько и видение (по жанру). Однако, ни того, ни другого тут нет, потому что вся концепция, создавшая структуру комедии, чисто мифологична; ей не хватает ни религии, ни этики. Поэтому, здесь не пародия эсхатологии, — в более позднем значении пародии, как сознательного осмеяния, — а пародия, комический аспект, тех образных систем, из которых в последующей этике создавались видения, откровения и другие эсхатологические жанры. Пародийность и комизм здесь в том, что лже-поэт Еврипид, настоящий ‛псевд’, узурпирует подлинную славу и значение Эсхила; в его лице торжествует всё самое низкое. Конечный провал Еврипида, подобно провалу Сократа в Облаках, раскрывает мнимость временной победы псевда: таков эпилог всех «гибристомахий», в противоположность титаномахиям, лишённым ‛комизма’.
Мифологический, до-этический образ суда пронизывает и Осы. Старый сутяга Филоклеон живёт в заточении, в сетке, из которой он не может выбраться, пока не прогрызает её и не спускается на верёвке вниз. Эта сетка в воздухе, подобно гамаку в Облаках, так же, как в Птицах, означает мнимое воздушное царство. Комические небеса, комические преисподние, полёты вверх (например, навозного Жука в Мире) и сошествия — обычные атрибуты древнего фарса. |
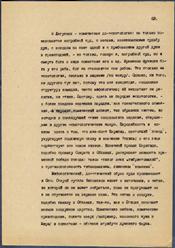 
|
Фигоклеон — олицетворение побеждающей несправедливости, «кривого суда» (547 ss.), кривды, антагониста правды в её исконном значении Дики, правды-суда. Это не «частное лицо», Филоклеон, а узурпатор космический, лже-бог, ‛комическое’ правосудие, мнимый Зевс:
619 Неужель ж моя не властительна власть, Или Зевсовой силе она не равна, Если Зевсом и так величают меня! Чуть немного в суде разбушуемся мы, Озабоченно шепчет народ, проходя: «Вседержитель наш Зевс, как сегодня в суде Расходилась гроза». А блесну я зарницей, молитву шепнут И, дрожа, под себя накладут богачи. Мне уже приходилось показывать, что Мнесилох в Тесмофориазусах выполняет функции бога плодородия1. Теперь я прибавлю: ‛комические’ функции. Мнесилох — псевдо-бог. Вся комедия в целом — пародия на таинство, на «утопию плодородия». Спасаясь из всех ‛комических’ смертей, Мнесилох оказывается победителем. О Плутосе мне тоже уже приходилось говорить. Мотив свержения со скалы — обычный для фармака2: эта комедия оттого необычна для Аристофана, что даёт торжество ‛скверны’ в особой форме просветления, прозрения Плутоса, перерожденья его, которое означает победу ‛справедливости’. Однако, структура 1 См. Фрейденберг О. М. Фольклор у Аристофана («Тесмофориазусы») // Сергею Федоровичу Ольденбургу к пятидесятилетию научно-общественной деятельности, 1882–1932: сб. статей / Акад. наук СССР. Л. : изд. и тип. Изд-ва Акад. наук СССР, 1934. C. 549—560. Одно из священных сказаний, связанных с праздником Тесмофорий, рассказывает о Батте, проникшем, переодевшись женщиной, на женское собрание в честь Деметры и оскопленном (см. Nilsson M. Griechische Feste. Lepzig, 1906. S. 325). Проникновение мужчины к женщинам, переодевание, оскопление метафорически передает, как считает Фрейденберг, образ ‛брака’, слияния мужского и женского начала, ‛оплодотворения’; действенный обряд самих Тесмофорий состоит в бросании в подземелье (яму) жертвенного животного пли фалла (брак с землей). Фрейденберг показывает, что герой Аристофана Мнесилох наследует культовой роли Батта (Бата), древневосточного божества плодородия, аналогичного Аттису; Мнесилох повторяет действия Батта и едва избегает его участи.
2 См.: Фрейденберг О. М. Слепец над обрывом // Язык и литература. 1932. Т. 8. С. 229—244. В одном из эпизодов комедии (ст. 69—70) от слепого нищего (Плутоса) хотят избавиться, поставив его на утесе так, чтобы он упал вниз. |
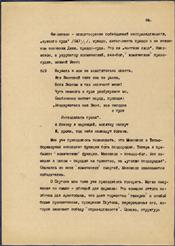 
|




