2. Комическое до комедии
[Предисловие Н. В. Брагинской]
Рукопись «Комическое до комедии» публикуется полностью, без изменений, с уточнением цитат и отсылок к цитатам; рукопись снабжена примечаниями составителя.
У работы «Комическое до комедии» есть две особенности, на первый взгляд никак не связанные между собой. Первая — то, что работа писалась в осажденном Ленинграде, вторая — то, что на собственные неопубликованные труды Фрейденберг ссылается так, словно читателю они могут быть известны. Нужно, наверное, представить себе человека, который много лет работал в идейной изоляции, не видел своих работ напечатанными (единственная опубликованная монография «Поэтика сюжета и жанра» таинственно исчезла с прилавков через пару дней после выхода в свет), представить себе ученого, который видит вокруг умирающий город, чтобы понять, что обращаться такой человек и ученый мог только к будущему. Перед лицом будущего и будущего читателя, тем более идеализируемого, чем меньше вероятия найти читателя труда о Гомере и Аристофане в осажденном Ленинграде, кажутся смешными, лишними ссылки и пояснения, и читателю в дали немногих, но недостижимых десятилетий приписывается и полная осведомленность я готовность все понять и обо всем догадаться.
Гнева и ты моего не обуздывай, дай мне свободу!
Гряд сей тебе я предать соглашаюсь, душой несогласный. Вот как уступчив грозный Олимпиец! Вот как он боится своей жены! 2. Не только Зевс и Гера — все боги и богини Илиады ссорятся, бранятся, интригуют. Они даже дерутся! Посейдон не хочет покориться Зевсу и обращает к нему ругательства (15,158 слл.); Арес, по интриге Геры, хочет идти в сражение вопреки воле Зевса (113 слл.). В 21 песне изображается ссора богов, драка богов, ругань богов. 392 Щиторушитель Арей налетел на Палладу Афину, Медным колебля копьём, изрыгая поносные речи: «Паки ты, наглая муха, на брань небожителей сводишь? Дерзость твоя беспредельна! Ты вечно свирепствуешь сердцем! …Ныне за всё, надо мной совершённое, мне ты заплатишь!» Рёк, и ударил копьём в драгоценный эгид многокистный, Страшный, пред коим бессилен и пламенный гром Молневержца. В оный копьём длиннотенным ударил Арей исступлённый. Зевсова дочь отступила и мощной рукой подхватила Камень, в поле лежащий, чёрный, зубристый, огромный… Камнем Арея ударила в выю и крепость сломила. Та же участь ожидает и Афродиту. |
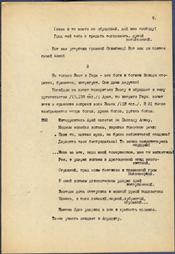 
|
423 …Афина бросилась с радостью в сердце,
Быстро напав на Киприду, могучей рукой поразила В грудь, и мгновенно у ней обомлели и сердце, и ноги. Гера поносит бранными словами Артемиду, а затем 489 …руки богини своею рукою Левой хватает, а правою, лук за плечами сорвавши, Луком, с усмешкою горькою, бьёт вкруг ушей Артемиду: Быстро она отвращаясь, рассыпала звонкие стрелы И, наконец, убегала в слезах. Такие отношения между богами отливаются в целые битвы-поединки, как в 20 песне. Это самые настоящие агоны. Трудно отличить драку богов, инвективу, агоны от тех агонов инвективы и драк, которые составляют душу балаганной и литературной комедии. Между тем, в эпосе видно с полной убедительностью, что распри-битвы богов дублируют распри-битвы героев. Разница между тем и другим — только разница планов. Дело, по-видимому, не в одном лишь смехе. Комическое имеет какую-то иную сущность, которая только метафоризируется смехом, наряду с инвективой, агоном, айсхрологией1 и т.д. Одной из таких метафор ‛комического’ является и похвальба. «Хвастливый воин» всегда присутствует в комедии. О похвальбе героев греческого эпоса (как и русского) можно бы сказать очень много. Но похваляются и боги, и тут-то весь контекст говорит именно о ‛комическом’. Я имею в виду похвальбу Афины, избивающей Ареса и Артемиду (21,427). Самый 1 Агон — поединок, в данном случае словесный; айсхрология — срамословие.
|
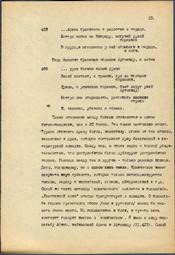 
|
термин ἐπευχομένη говорит очень ясно, что мы имеем с древнейшей похвальбой: ведь по-гречески εὔχομαι и ἐπεύχομαι ‛молюсь’ значит ‛хвастаюсь’, εὖχος слава, εὐχή молитва. Величанье, автослава, хвала тотема самому себе (победа над антагонистом, антитотемом) — вот что тут в основе1.
Эта ‛похвальба’ принадлежит к разряду комедийных инвокаций, восхваляющих богов; к разряду парабатических ‛молитв’, с их хвалой и бранью (в комедии — с хвалой автору и с бранью по адресу литературных конкурентов)2. Можно было бы найти в эпосе и прямой комизм, например, в сцене плача Афродиты в 5 песне или плаче Артемиды в 21 песне, в адюльтере Афродиты с Аресом в песне Демодока, в гимне к Гермесу, в гимне к Афродите (когда богиня любви выдаёт себя за невинную девушку). Но это модернизация. Нет сомненья, что эпические боги не подлежат никакому осмеянию, хотя подаются, несомненно, в комическом плане. К такому, до-комедийному, комизму восходит и роль Афродиты в 3 п. Илиады. Афродита очень близка, по функции своей роли, к Елене. Я оставляю в стороне, что Елена одна из ипостасей Афродиты (как показал Узенер3), верней, что каждая из них дубликат другой; важно, что в эпосе Елена — ‛героиня’, Афродита — ‛божество’. Там и сям находятся стёртые следы того, что Афродита, а не Елена, влюблена в Париса (говоря модернизованно). Елена бросает богине замечательные укоризны: 1 Фрейденберг связывает хвалу «тотема» (см. Брагинская Н. В. О научном наследии О. М. Фрейденберг // Миф и театр: лекции по курсу «Теория драмы» для студентов театральных вузов / О. М. Фрейденберг. М.: ГИТИС, 1988. С. 11) самому себе и партию запевалы во время хоровых инвокаций (призывов к божеству). «Инвокации» во время шествия на охоту обращаются впоследствии в просодические песни; просодией называются у греков те песни, которые поются всем общественным хором во время шествия в честь божества, при прохождении его в храм. Запевала таких просодических песен был победитель, только что одолевший в поединке смерть и сам воскресший, т. е. сам тотем.... Победитель в Олимпиях шел в окружении всего племени и сам являлся запевалой, зачинателем победной хвалы в честь себя самого; это было новое божество, в рукопашной умертвившее старого бога и теперь ставшее новым царем, новым годом, новым женихом, (см.: Фрейденберг О. М. Поэтика сюжета и жанра: период античной литературы. : Л.: Гослитиздат, 1936. С. 125, 151. Инвокация как обряд связана с мифологическим тождеством имени и того, что оно — говоря нашим языком — называет. Поэтому призываемое существо появляется само, «нарождается», умерший возвращается из смерти, небытия, отсутствия. На этом строятся магические вызывания и выкликания. (См. Там же. С. 104 сл.)
2 См. прим. 26 к «Паллиате». «Парабатическнй — от «парабаза» — особая часть древней аттической комедии, где хор как бы нарушая сценическую иллюзию, обращается непосредственно к зрителям от лица автора с речью о происходящем спектакле с похвалой ему и поношением конкурентов, с просьбой о присуждении награды. Фрейденберг переносит здесь этот термин на аналогичные, но не хоровые монологи в паллиате» (Фрейденберг О. М. Паллиата // Миф и театр / О. М. Фрейденберг. М.: ГИТИС, 1988. С. 72). 3 См. Usenег, 1913. S. 207 sq. |
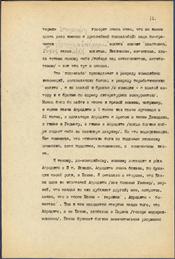 
|
3,406 Шествуй к любимцу сама, от путей отрекися бессмертных
И, стопою твоей никогда не касаясь Олимпа, Вечно при нём изнывай и ласкай властелина, доколе Будешь им названа или супругою, или рабою! Правда, в подлиннике нет ни «любимца», ни «властелина»; стих 408 нужно читать «вечно при нём страдай и охраняй его (может быть “стереги”)». Но общий смысл верен; верно и то, что богиня должна ждать, смертный «сделает ли» её «супругой или рабыней». Этого достаточно. Не Елена любит Париса, а Афродита; Елене стыдно взойти на ложе труса, а богине — нет. И вот эта-то именно богиня приходит к Елене в неприглядной роли из фарса, комедии, плутовского романа, — в роли старухи-сводницы. Происходит сцена в духе Герондовского мимиямба1: Елена благородно негодует, а старуха соблазняет, прибегая к низким доводам. Больше того. Божество выполняет при Елене функцию рабыни. 3,423 Тихо на терем высокий жена благородная всходит. Там для неё, улыбаясь пленительно, кресло Киприда, Взяв сама, пред лицом Александровым, ставит богиня. Села на нём Елена… и т.д. Итак, была права Елена, когда предрекала, что богиня будет рабой у Париса: она выступает в рабской роли и тут! Нужно обратить внимание, что Афродита характеризует Париса так: 1 Речь идет о Первом мимиямбе Геронда (Герода) под названием «Сваха или Сводня», в котором старуха склоняет молодую женщину изменить с другим уехавшему возлюбленному.
|
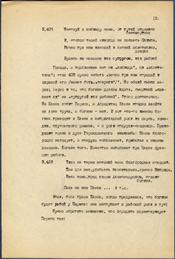 
|
3,392 …не скажешь, что юный супруг твой
С мужем сражался и с боя пришёл, но что он к хороводу Хочет итти, иль воссел опочить, хоровод лишь оставив. С этим нужно сопоставить слова отца Париса, который даёт своим сыновьям такую же характеристику, но в инвективном плане: 24,260 Храбрых Арей истребил, а позорники эти остались, Эти лжецы, плясуны, знаменитые лишь в хороводах… Оба места показывают, что Парис, в отличие от других героев, имеет ещё комико-бытовой реалистический план. У него какие-то черты «частного» лица, человека; недаром мы его застаём больше в спальной, в комнате, чем на поле битвы. 3,391 Он уже дома, сидит в почивальне, на ложе точёном… 6,321 Брата нашёл (Гектор) в почивальне, в трудах над оружием пышным: Щит он, и латы, и гнутые луки испытывал праздный. Там и Елена аргивская в круге сидела домашних Жён рукодельниц и славные им назначала работы. Это жанровая картина, выпадающая из героического стиля Илиады. Тут близость к Одиссее, к описанию щита Ахилла, к жанровым эпическим сравнениям. Сцену любовного соединения Париса и Елены, инспирированную Афродитой, я и хотела бы сопоставить с гиерос |
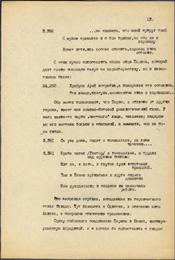 
|
гамос’ом Зевса и Геры в 14 п. Илиады.
Объятиям Париса и Елены предшествует инвектива (3,427–433); объятиям Зевса и Геры в 14 п. предшествует грубая брань в 8 п. (447–484). Парис инвокирует Елену в таких же выражениях, как Зевс Геру: 3,441 Ныне почием с тобой и взаимной любви насладимся. Пламя такое в груди у меня никогда не горело, Даже в тот счастливый день, как с тобою из Спарты весёлой Я, с похищенной, бежал на моих кораблях быстролётных, И на Кранае сопрягся и первой любовью, и ложем. Ныне пылаю тобою, желания сладкого полный. Зевс говорит: 14,314 Ныне почием с тобой и взаимной любви насладился. Гера, такая любовь никогда, ни к богине, ни к смертной В грудь не вливалася мне и душою моей не владела! …Так не любил я, пленясь… …ни даже тобою, о Гера! Ныне пылаю тобою, желания сладкого полный. Нетрудно догадаться, что некогда ходили стереотипные песни о гиерос гамос’е богов плодородия, имена которых были различны. Самой законной фигурой в них была сама олицетворённая любовь, Афродита; но в 14 песне она уступает свои прелести Гере (182–224), а в 3 песне активно соединяет Елену с Парисом, — там и тут за жен |
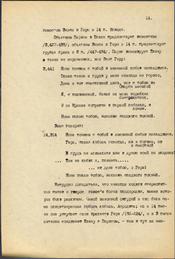 
|
скими партнёрами акта плодородия находится она. Теперь понятна многоплановость этого образа: космический план 14 песни, реалистический — 3 песни. Афродита — старая сводница, рабыня, пряха в царском доме, прислужница, поданная царице кресла доверенный царский спальник; она не только уподоблена рабе, но выполняет рабскую работу в своём божеском образе (413–420).
3 Было бы ошибкой принимать гомеровскую Афродиту за реалистический типаж, а гомеровских богов — за персонаж комический. Явление глубже. В нём своего рода параллель к гомеровским сравнениям. Я уже говорила, что реализм гомеровских сравнений совершенно феноменален тем, что носит характер, лишённый какого бы то ни было комического элемента (в том числе и снижения1). Это единственный пример во всей античной литературе. В то же время он уже внешне отделен от мифа. В богах Илиады (включая и песнь Демодока) все черты реализма и комизма налицо, и это первый образец, так сказать — начало, их будущего симбиоза. База их — миф; мифом они пронизаны настолько, что его не отодрать. И всё же самое главное, что нужно тут сказать, заключается вот в чём: это не реализм и это не комизм. Гера, Афина, Зевс (в роли мужа) и Афродита носят черты комедийных, реалистических масок типа ателлан или аристофановского фарса, а нисколько не служат ни аналогией к ним, ни предшествием, ни прообразом. Казалось бы, подача Афродиты- 1 Реализму сравнений О. М. Фрейденберг посвятила неопубликованную работу
|
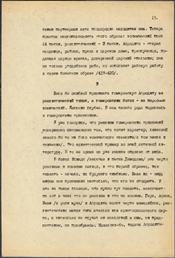 
|
Гефеста из песни Демодока, трактовка всего сюжета об обманутом, внезапно возвращающемся безобразном муже, о доносе Солнца, о тайной измене жены с подкупившим её красавцем — говорит о фарсе, о бытовой комедийной новелле. Но нет. Неверно. Тут не новелла и не фарс. Чего же не хватает? Для богов — осмеяния. Для характеров — свойств. Для сюжета — законченности. Перед нами комизм и реализм, когда их ещё нет, как качественных категорий. В противоположность сравнениям, олимпийский план показывает чистый миф, мифом остающийся, поглощающий в себе все отдельные черты будущего комико-реалистического жанра. Если в сравнениях реализм есть одна из форм мифа, то в олимпийских богах миф может быть принят за реализм, но им не является.
Следует повторить и на этом примере, что жанр создаётся не от наличия тех или иных метафор, того или другого сюжета, а только сознанием, в процессе осмыслений. Олимпийский план показывает, что ‛героям’ сопутствует особая стихия ‛богов’, и преимущественно богов света, неба, огня, плодородия, всяких инкарнаций ‛жизни’ в метафоре ‛бессмертия’. Но все эти боги бескачественны. Они не имеют никакого сюжета. Нет в них ни сюжетного начала, ни конца. Они выплывают на сцену спорадически, подобно облакам — где-то на небе, то часто, группой, то в отдельности, разбросанно. Только одна у них сюжетная линия — посредничество ахейцам или троянам. Гера могла бы, в сюжетном построении, и не соблазнять Зевса, Диомед мог бы и не ранить Афродиты, Арине незачем было изводить Ареса. |
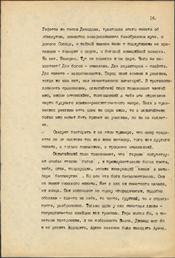 
|




