2. Комическое до комедии
[Предисловие Н. В. Брагинской]
Рукопись «Комическое до комедии» публикуется полностью, без изменений, с уточнением цитат и отсылок к цитатам; рукопись снабжена примечаниями составителя.
У работы «Комическое до комедии» есть две особенности, на первый взгляд никак не связанные между собой. Первая — то, что работа писалась в осажденном Ленинграде, вторая — то, что на собственные неопубликованные труды Фрейденберг ссылается так, словно читателю они могут быть известны. Нужно, наверное, представить себе человека, который много лет работал в идейной изоляции, не видел своих работ напечатанными (единственная опубликованная монография «Поэтика сюжета и жанра» таинственно исчезла с прилавков через пару дней после выхода в свет), представить себе ученого, который видит вокруг умирающий город, чтобы понять, что обращаться такой человек и ученый мог только к будущему. Перед лицом будущего и будущего читателя, тем более идеализируемого, чем меньше вероятия найти читателя труда о Гомере и Аристофане в осажденном Ленинграде, кажутся смешными, лишними ссылки и пояснения, и читателю в дали немногих, но недостижимых десятилетий приписывается и полная осведомленность я готовность все понять и обо всем догадаться.
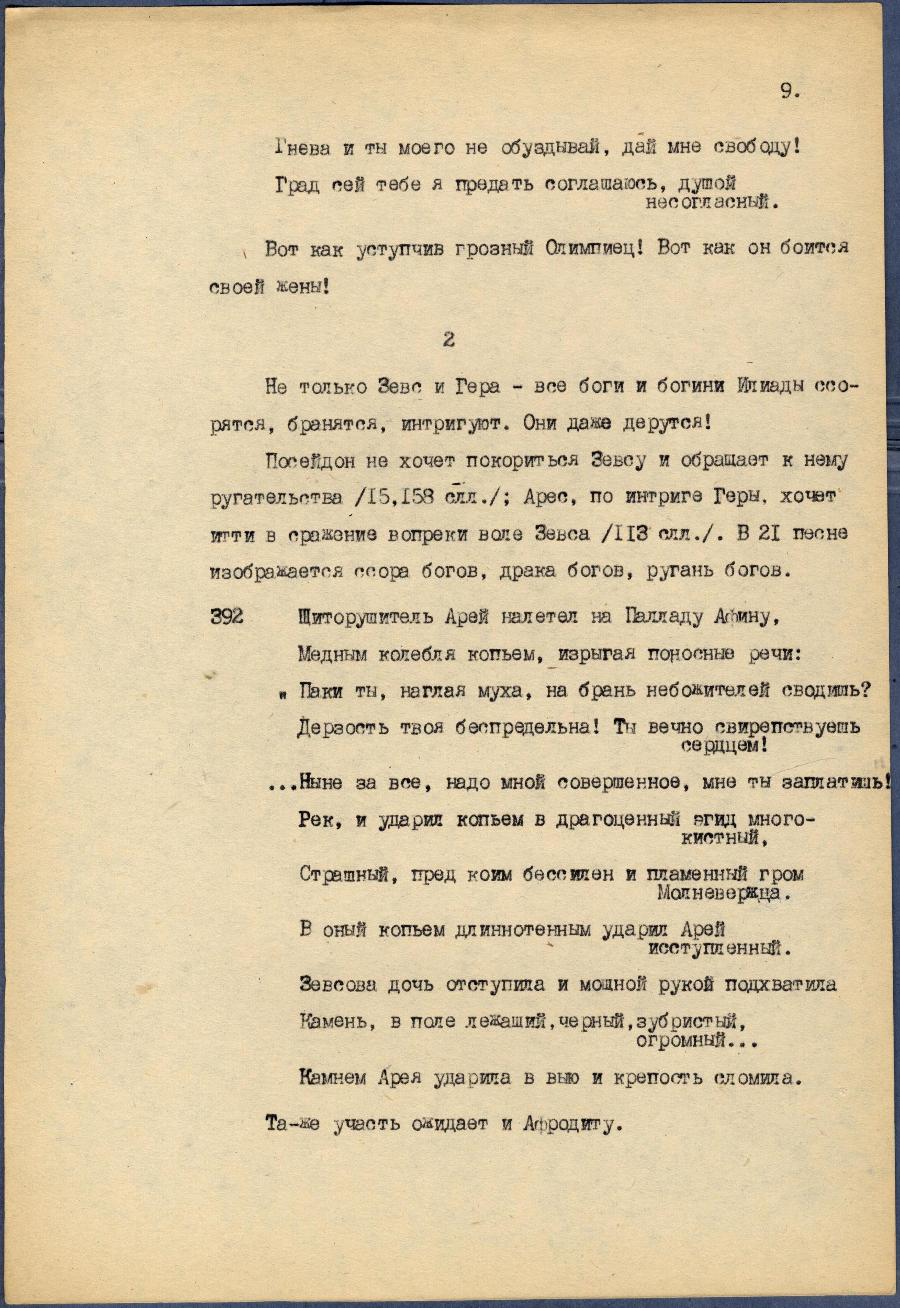 |
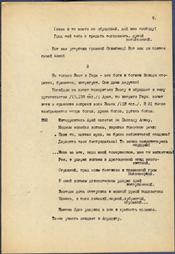 
|
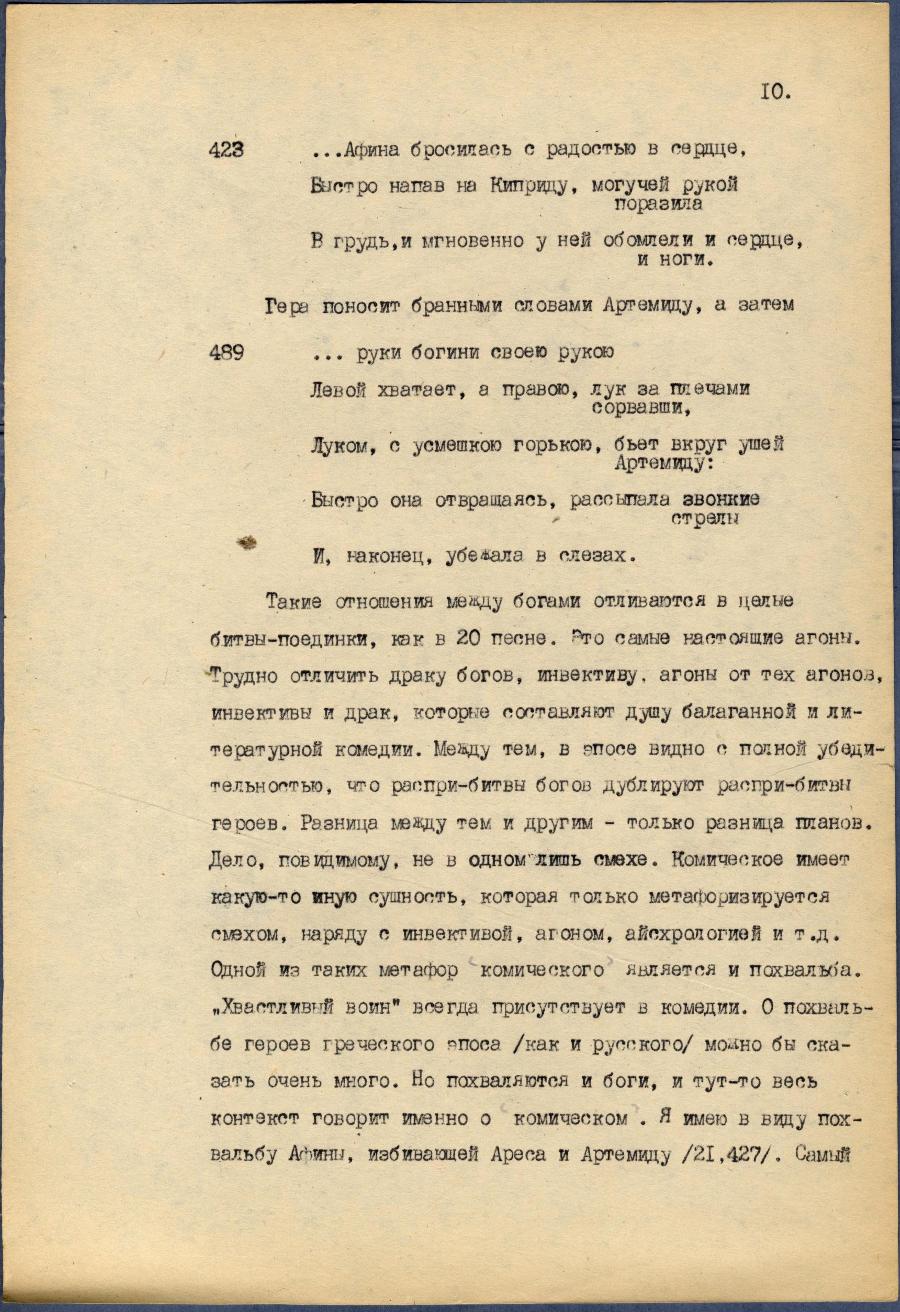 |
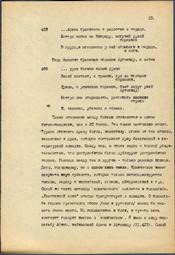 
1 Агон — поединок, в данном случае словесный; айсхрология — срамословие.
|
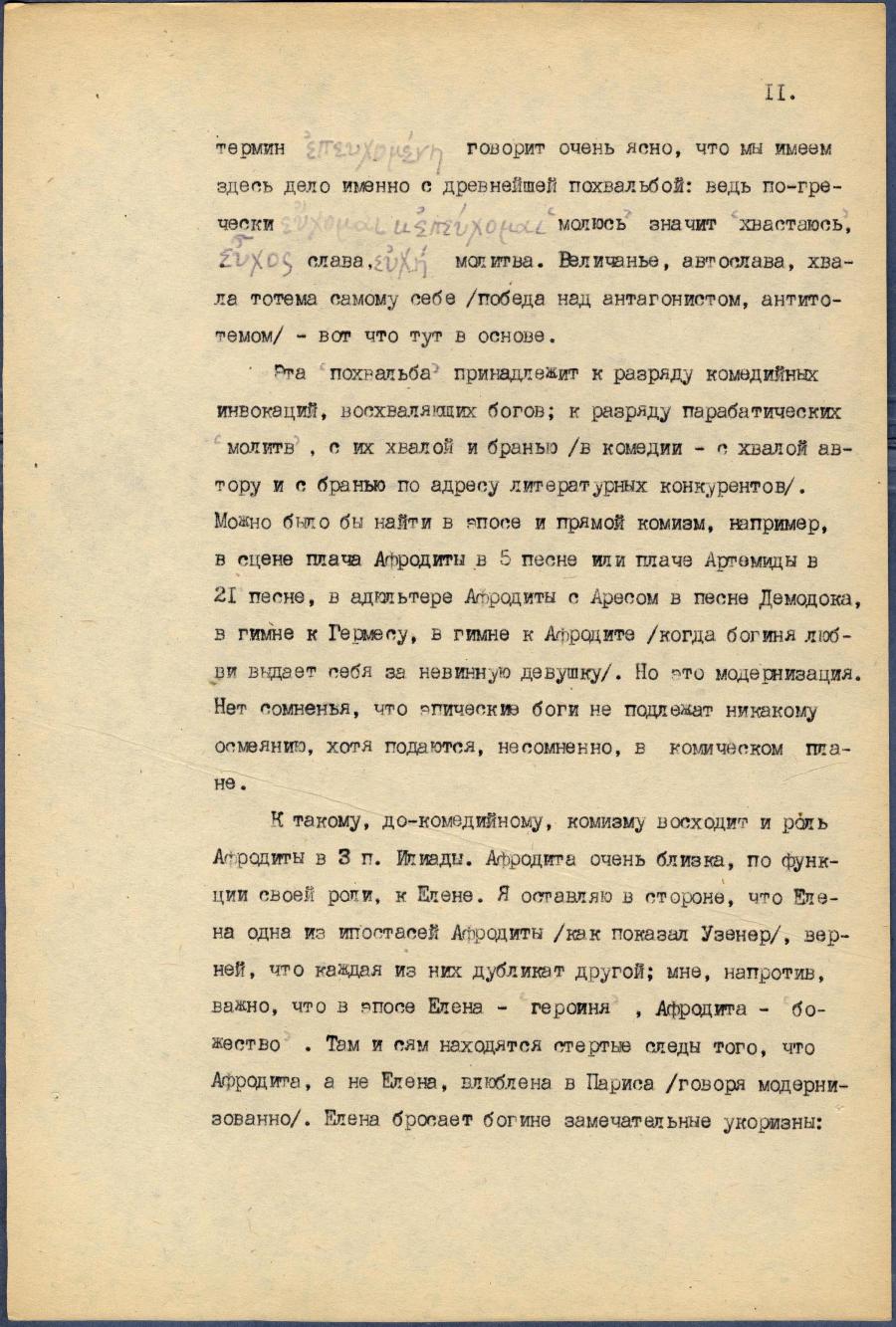 |
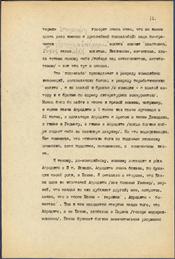 
1 Фрейденберг связывает хвалу «тотема» (см. Брагинская Н. В. О научном наследии О. М. Фрейденберг // Миф и театр: лекции по курсу «Теория драмы» для студентов театральных вузов / О. М. Фрейденберг. М.: ГИТИС, 1988. С. 11) самому себе и партию запевалы во время хоровых инвокаций (призывов к божеству). «Инвокации» во время шествия на охоту обращаются впоследствии в просодические песни; просодией называются у греков те песни, которые поются всем общественным хором во время шествия в честь божества, при прохождении его в храм. Запевала таких просодических песен был победитель, только что одолевший в поединке смерть и сам воскресший, т. е. сам тотем.... Победитель в Олимпиях шел в окружении всего племени и сам являлся запевалой, зачинателем победной хвалы в честь себя самого; это было новое божество, в рукопашной умертвившее старого бога и теперь ставшее новым царем, новым годом, новым женихом, (см.: Фрейденберг О. М. Поэтика сюжета и жанра: период античной литературы. : Л.: Гослитиздат, 1936. С. 125, 151. Инвокация как обряд связана с мифологическим тождеством имени и того, что оно — говоря нашим языком — называет. Поэтому призываемое существо появляется само, «нарождается», умерший возвращается из смерти, небытия, отсутствия. На этом строятся магические вызывания и выкликания. (См. Там же. С. 104 сл.)
2 См. прим. 26 к «Паллиате». «Парабатическнй — от «парабаза» — особая часть древней аттической комедии, где хор как бы нарушая сценическую иллюзию, обращается непосредственно к зрителям от лица автора с речью о происходящем спектакле с похвалой ему и поношением конкурентов, с просьбой о присуждении награды. Фрейденберг переносит здесь этот термин на аналогичные, но не хоровые монологи в паллиате» (Фрейденберг О. М. Паллиата // Миф и театр / О. М. Фрейденберг. М.: ГИТИС, 1988. С. 72). 3 См. Usenег, 1913. S. 207 sq. |
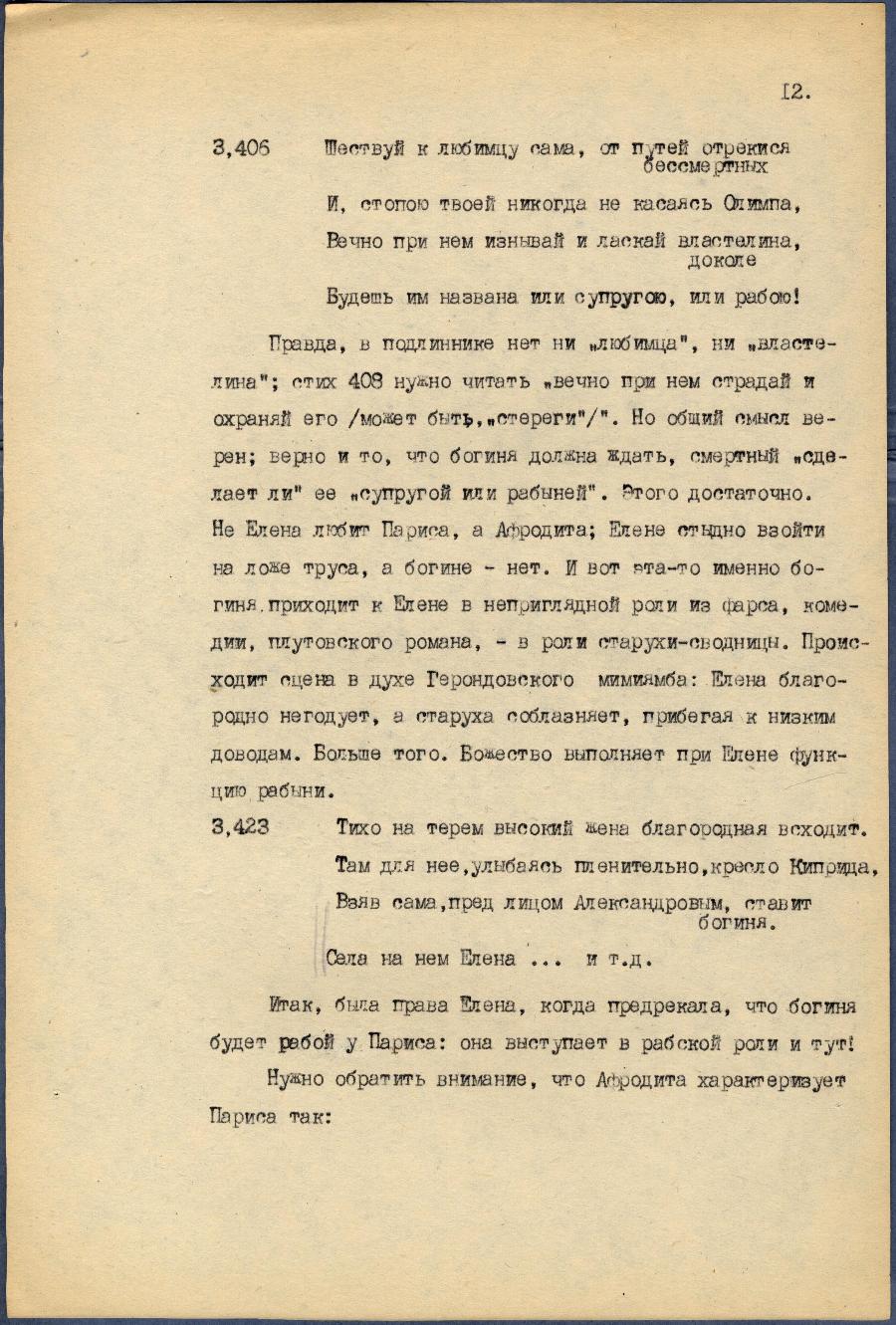 |
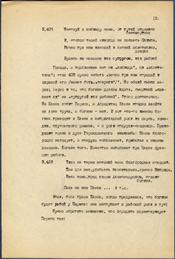 
1 Речь идет о Первом мимиямбе Геронда (Герода) под названием «Сваха или Сводня», в котором старуха склоняет молодую женщину изменить с другим уехавшему возлюбленному.
|
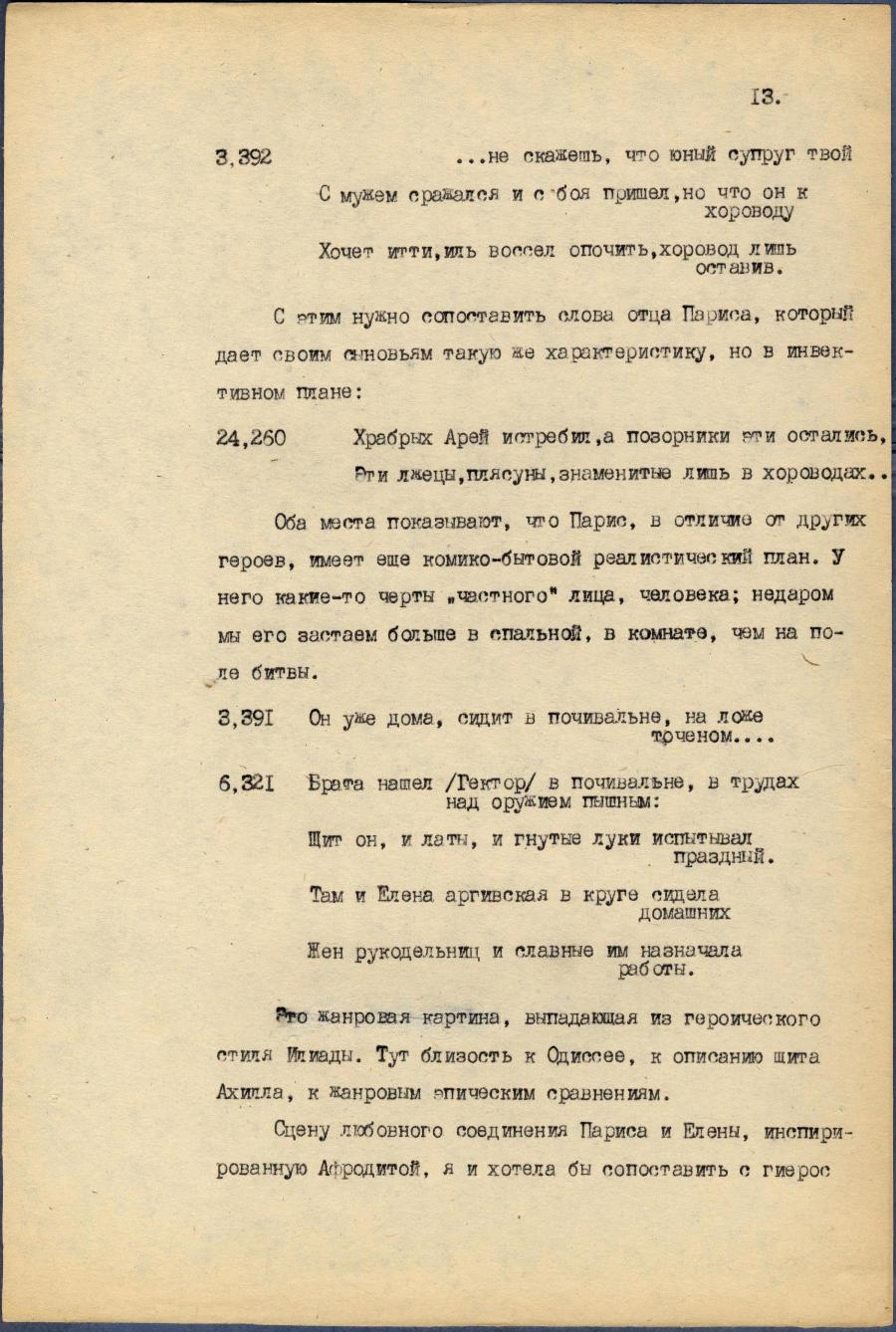 |
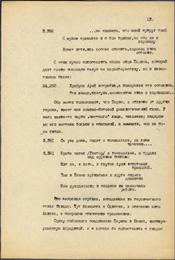 
|
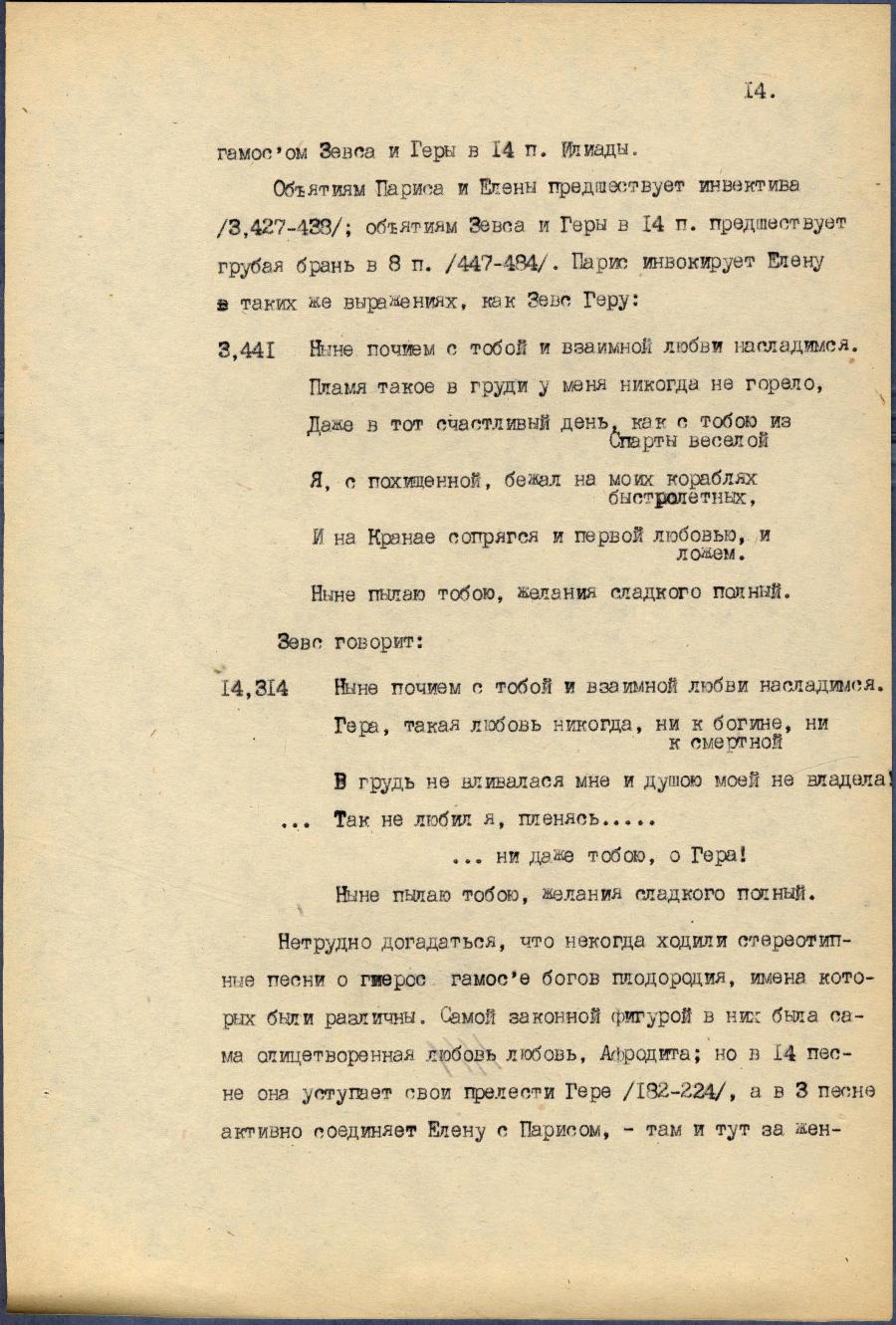 |
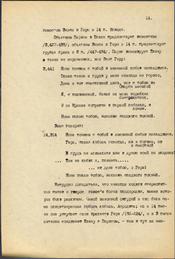 
|
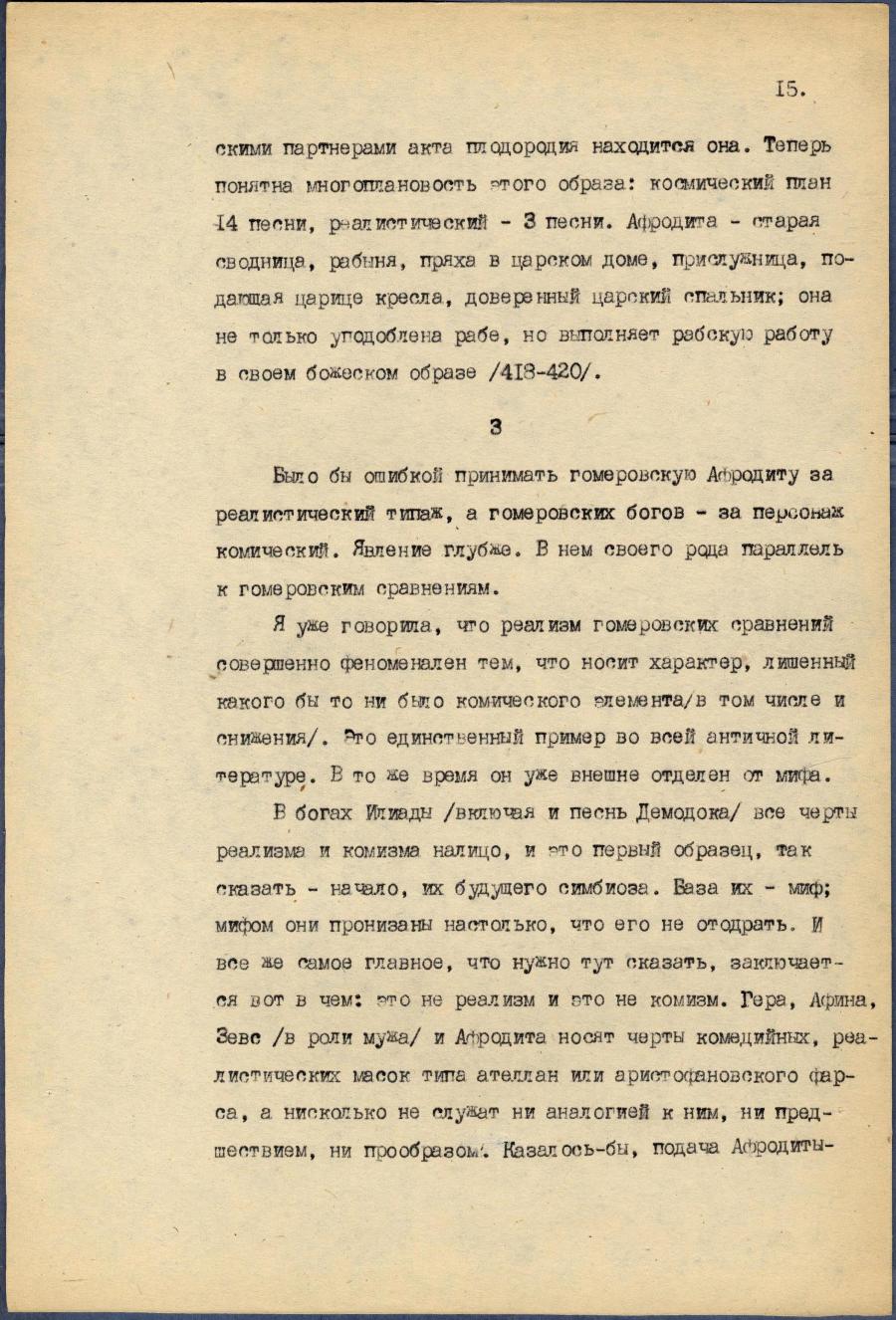 |
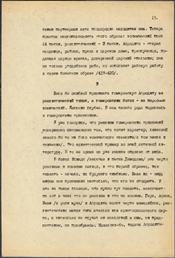 
1 Реализму сравнений О. М. Фрейденберг посвятила неопубликованную работу
|
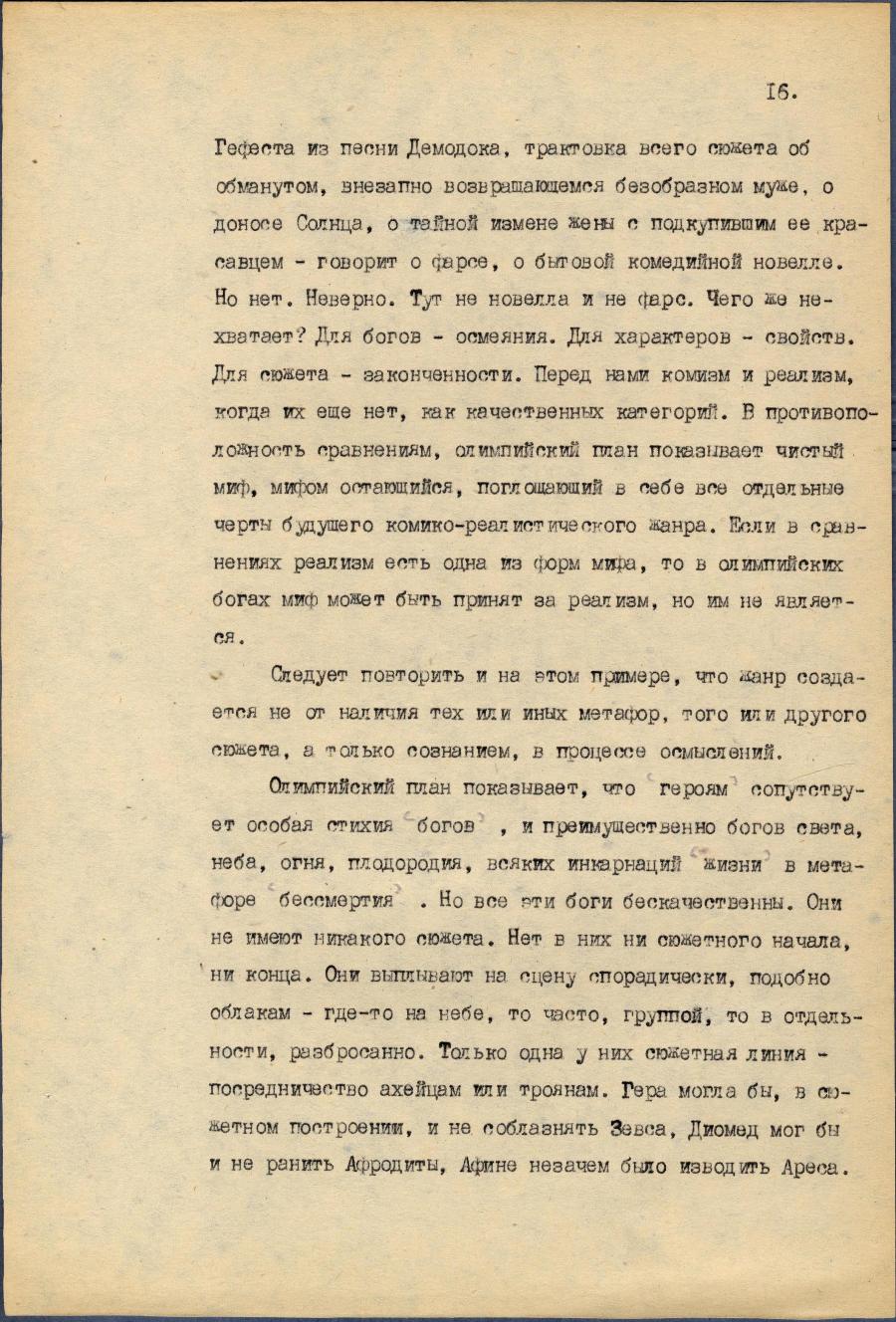 |
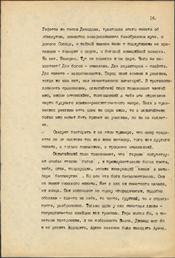 
|




